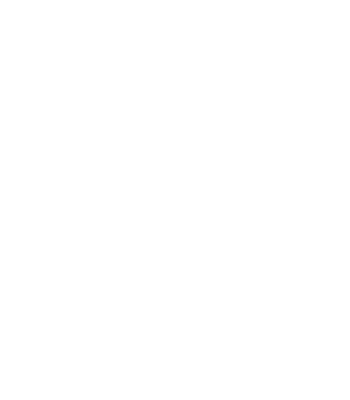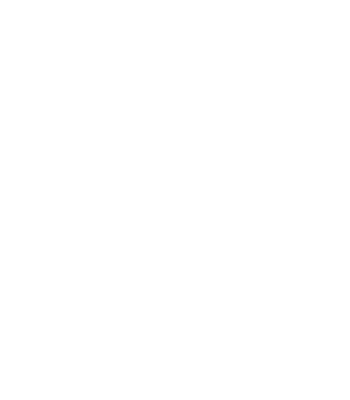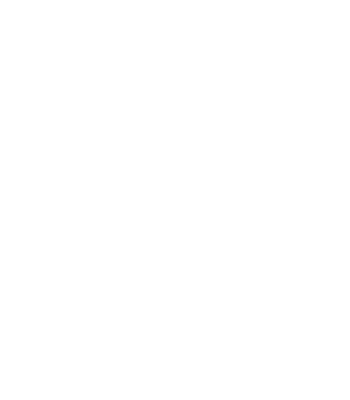Биография - читать далее
Изданные книги: «Волны забытого лета», «Хроника карантина», «Маша», «Стихи. Избранное». Более 70 публикаций в различных альманахах и сборниках Прозы и Поэзии.
Победитель Всероссийского Литературного Конкурса «Юмор лечит – 2022 г.»
Лауреат Международного Литературного Конкурса «Славянское слово – 2022 г.»
Лауреат Всероссийского Литературного Конкурса «Герои Великой Победы 2022»
Победитель Международного конкурса поэзии Итальянской Академии искусств "IL PARNASO ANGELO LA VECCHIA 2024"
Лауреат Национальной Литературной Премии «Золотое Перо Руси – 2024»
Финалист I Международного Конкурса им. Риммы Казаковой – 2025
Финалист XII Международного Литературного Форума «Славянская Лира- 2025»
Финалист Международного Литературного Конкурса им В. Остена – 2025
Лауреат Литературной Премии МОО СПР им. Н. Рубцова – 2025 г.
Лауреат Международного Литературного Конкурса «Славянское слово – 2025»
Победитель Всероссийского Литературного Конкурса «Традиция – 2025»
Победитель Всероссийского Литературного Конкурса «Юмор лечит – 2022 г.»
Лауреат Международного Литературного Конкурса «Славянское слово – 2022 г.»
Лауреат Всероссийского Литературного Конкурса «Герои Великой Победы 2022»
Победитель Международного конкурса поэзии Итальянской Академии искусств "IL PARNASO ANGELO LA VECCHIA 2024"
Лауреат Национальной Литературной Премии «Золотое Перо Руси – 2024»
Финалист I Международного Конкурса им. Риммы Казаковой – 2025
Финалист XII Международного Литературного Форума «Славянская Лира- 2025»
Финалист Международного Литературного Конкурса им В. Остена – 2025
Лауреат Литературной Премии МОО СПР им. Н. Рубцова – 2025 г.
Лауреат Международного Литературного Конкурса «Славянское слово – 2025»
Победитель Всероссийского Литературного Конкурса «Традиция – 2025»
М.В.ЛАЗАРЕВ - Произведения ⤵️
Благовещенье в карантине.
рассказ
– Милый, вставай! Уже одиннадцать часов! Сколько можно спать? Смотри, какое сегодня солнце! Весна пришла!
Он открыл глаза. Потянулся и улыбнулся.
– Доброе утро, дорогой! С праздником!
– C каким?
– Благовещенье!
– Блин... Точно. Седьмое. Благовещенье. А я и забыл. Немудрено! Забудешь тут, когда, то дезинфекция, то профилактика. Скоро уже и даты забудем, и цифры.
– Почему? – нахмурившись, спросила жена.
– А чего их помнить? Считать то всё равно будет нечего. Кроме инфицированных. А их чего уже считать – тыщей больше, тыщей меньше ...
Жена явно напряглась. Он выдержал паузу и захохотал:
– Шучу я, родная! Шучу! С праздником! С Благовещеньем!
– Я уже и не понимаю, когда ты шутишь, а когда нет.
– Танюшь сделай кофе пожалуйста, и тост. Один! А то уже пора начинать экономить. Может, скоро будем сухарики сосать.
Жена одарила укоризненным взглядом, улыбнулась и пошла на кухню. Он опять откинулся на подушку.
– Благовещенье. Большой праздник. Можно сказать, краеугольный! Основа христианской религии. Беременная Мария... Непорочное зачатие... Архангел Гавриил… Что то ещё там было... Что то я упускаю... Не помню. Голова ещё не включилась.
– Милый, ты идёшь? Кофе готов! – прервал размышления голос с кухни. Он вскочил и потрусил умываться.
Сев за стол, он стал привычно намазывать масло на подрумянившийся кусок хлеба. Что-то бубнил телевизор. Очередной профессор, радостный от того, что и его вспомнили впервые за пятьдесят пять лет, рассказывал, как он будучи ещё студентом победил практически в одиночку холеру в Одессе, а потом ещё и оспу в далёком Мозамбике. Бегущая строка рассказывала, что дебиловатый премьер англосаксов попал в реанимацию и уже признал все ошибки и даже готов познакомиться с расчёской и обещает научиться мыть руки. Всё было буднично. Но что-то на задворках сознания тревожило и создавало диссонанс. Съев бутерброд и отпив кофе, он закурил. И тут это «что-то» его потревожило. Заставило замереть и прислушаться. Он напрягся. И точно! Этот самый звук! Звук царапанья когтями по карнизу. Он вскочил и рванулся к окну. За стеклом сидел его пернатый приятель. И причём не один! Рядом с ним, грациозно откинув голову и словно принимая солнечные ванны, примостилась голубка. С первого взгляда было видно, что она не из «простых помоечных». Весь ее вид, вся стать, от элегантной посадки головы и до курчавившихся пёрышек хвоста, говорили о том, что её предки были из знаменитых московских почтарей. И даже, возможно, с добавлением крови почти исчезнувших подмосковных горлиц... Её ухажер нетерпеливо расхаживал взад - вперед, цокая когтями по жестяному отливу.
– Прилетел... Прилетел мой голубь, Танюш! Кузьмич прилетел! Неделю не было! Я уж думал всё... А он вернулся! – Максим на секунду замер, словно что то осознав и растерянно продолжил: – Ё моё... так это ж... Какой же я идиот!
Он бросил сигарету в пепельницу и рванулся в комнату. Ошарашенная жена проводила его взглядом и робко спросила:
– С тобой всё нормально?
– Нет, конечно! Не нормально! Я идиот!
– Угу. Если бы… – в её голосе слышалась явная нотка сожаления.
Он подскочил к шкафу и, что-то бубня себе под нос, стал доставать с полки книжки.
– Где? Где это... Тициан? Нет… Какой на фиг Тициан ?! Джорджоне? Нет… Вспоминай дебил! Веронезе? Да... По-моему да... А! Вот точно! Веронезе! Всё-таки я гений!
– Идиот не может быть гением. Ты определись наконец, – саркастично произнесла жена.
– Нет, скорее всё-таки гений! Если я что-то когда-то запомнил или увидел, я этого никогда не забываю. Даже если это валяется на самой дальней полке мозга. - Он раскрыл альбом и улыбнулся: - А ведь утром не хватило, как тем знатокам в «Что? Где? Когда?», всего одной минуты. Не докачал. Смотри сюда, любимая! Это художник Паоло Веронезе. Картина «Благовещенье». Это Дева Мария, это Архангел Гавриил, а это...
Жена перебила:
– Это не архангел. Какой же это архангел?! Совсем не похож! И без крыльев! Это кардинал Ришелье из трёх мушкетёров. Вылитый, как в кино!
– Согласен! – Максим рассмеялся. – Но подожди, дело не в Гаврииле. Точнее, сейчас не в нём. Смотри дальше. Что видишь? Это кто?
– Ну, как кто? Голубь.
– Вот! Умница! Голубь! Но не просто голубь! Это Святой дух! Так изображали Святой дух. В виде голубя. И он пропал, ты же знаешь! Его не было семь дней. И сегодня он прилетел! Представляешь?! Сегодня! А что у нас сегодня? Благовещенье! Он прилетел в Благовещенье! Это Святой дух сегодня сошёл. Так считалось испокон веков! Ты понимаешь, любимая? Значит, всё будет хорошо! Значит, кончится весь этот вирус, это ковид дурацкий, карантин, вообще вся эта хрень. Всё вернётся! Значит, будут и море, и лес, и горы, и всё, всё, всё будет. Значит, будем жить!
Глаза жены заблестели.
– Правда? Значит, всё будет хорошо? Я так переживаю за маму, за твою маму, за Серёжку, за Вячеслава Дмитрича. За всех переживаю. Вон сколько уже умерло и сколько знакомых болеет...
– Всё, милая, всё! Теперь всё будет хорошо!
Он вернулся на кухню и подошёл к окну. Картина на удивление не поменялась. Красотка так и сидела, закинув головку и что-то нежно воркуя, а её жених расхаживал по карнизу. Нахохлившийся и явно не в настроении.
– Ну, привет, дружище. И где же это мы пропадали? Я смотрю, ты не один?
Голубь остановился, присел и, опрокинув голову набок, искоса посмотрел ему в глаза, прищурился и надув зоб, недовольно пробурчал:
– Сколько вообще можно ждать? Уже битый час тут сидим. Ты же видишь, я не один. С невестой. Пригласил на обед. Сказал, что есть место клёвое, с хорошей кухней. Хотел официальное предложение ей сделать. И что? Прилетаем, а тут шаром покати, – и голубь снова стал расхаживать по старому маршруту туда-сюда по карнизу. Не в силах больше сдерживаться от переполнявших его чувств, Максим рассмеялся и, развязав кулёк, высыпал две большие горсти семечек в кормушку.
– Вот тебе Кузьмич! Угощай невесту. И спасибо вам, ребята. С праздником вас!
Он курил и улыбаясь смотрел, как клюёт семечки пара голубей. На душе было очень тихо и спокойно. Хотелось просто вот так стоять вечно и курить.
– Дорогая, а не выпить ли нам шампанского? Праздник ведь!
– Во-первых, с утра шампанское сам знаешь кто пьёт. Во-вторых, у нас в доме из фруктов только солёные огурцы и чеснок.
– Милая, ну я же не «Агдама» предлагаю тяпнуть по стакану. А лучшее в мире шампанское! «Пино Нуар Брют Розе» Золотой Балки. А его закуска только портит.
Жена на секунду задумалась и ответила:
– Ну вообще то я в семь встала, это ты дрых до одиннадцати. И для меня уже не совсем не утро.
– Ну вот и здорово! Бери бокалы, накинь куртку и пошли на балкон.
Струйки пузырьков ровными рядами, играя искорками в лучах солнца, струились упрямо вверх. Лопались и, вырвавшись наконец на свободу, наполняли всё пространство вокруг весной, радостью и надеждой. Жена, закутавшись в шаль, смотрела куда-то вдаль, о чем-то думала и улыбалась. Максим поднял бокал:
– С праздником, дорогая! С Благовещеньем!
Пасха в карантине.
рассказ
– Ладно, успокойся. Всё уже, всё. Не обижайся. Я, наверно, тоже лишнего наговорил. Всё. Ну бывает! Успокойся. Смотри, уже два ночи! Пора бы уже и поспать, – он обнял и поцеловал жену в щёчку. – Иди, я покурю и тоже буду ложиться.
...Страстная пятница встретила мелким снегом вперемешку с дождём, уже становившейся обыденной и от того ещё более страшной статистикой заболевших и молчаливо сидящим на карнизе голубем. И отсутствие где-то заблудившейся весны, и ставший уже почти членом семьи голубь, и привычный бубнёж диктора на экране уже настолько впитались в то, что принято называть уютом и стабильностью, что даже мысли о том, что всё-таки наступит когда то весна, что когда-нибудь появится и солнце, что всё рано или поздно проходит, уже не успокаивали и не пугали, а просто пролетали через сознание, не оставляя никакого следа. Закончится? Конечно, закончится. Всё вернётся? Конечно, вернётся. Всё будет хорошо? Конечно, будет. Вопрос в другом – когда? А вот на это не мог дать ответа никто из живущих на планете. А раз ответа не существует, то зачем тогда вообще об этом думать. Ведь не думаем же каждый день о том, что в любой момент может взорваться вулкан Йелостоун и похоронить полпланеты. Не думаем. Вот и правильно. А вывод? А вывод один: наслаждайся жизнью сейчас. Вот в этот самый момент. Ведь помимо прогулок по весеннему лесу или субботнего матча «Спартака» есть миллионы книг, которые ты никогда бы не прочитал, есть тысячи фильмов, которые ты никогда бы не посмотрел. Есть, конечно, одна маленькая деталька, разбивающая всю эту конструкцию, – деньги. Точнее, их свойство заканчиваться. Но и тут можно подойти философически. Если ежедневно переживать на тему «где их взять», их всё равно не прибавится. А вот нервных клеток явно убавится. Поэтому, как говорится, будем бороться с геморроем по мере его наступления. Закончив внутренний психотренинг и допив кофе, он достал сигарету и нажал кнопку на пульте, прибавляя звук.
Подборка свежих новостей веселила и поднимала настроение. Такого калейдоскопа патологической тупости и управленческого кретинизма, которое демонстрировало человечество, не снилось ни Салтыкову-Щедрину, ни О. Генри. Новости из Италии, где Шойгу заливал Бергамо спиртом, почему-то так вывели из себя гомосека и по совместительству президента Франции Макрона. Да так вывели, что он даже обиделся на Россию. Было, правда, непонятно, что послужило причиной обиды. То ли он не мог выдержать такое отношение к спирту со стороны русских, то ли понимая, что дать адекватный ответ у него не получится, так как поливать улицы шампанским или «Бордо» будет не совсем комильфо. Следом за Макроном на экране появился мэр братской могилы с гордым названием Нью-Йорк. Брызжа в камеру слюной с такой силой, что захотелось надеть маску даже по эту сторону экрана, мэр наконец назвал миру виновника эпидемии. Не нужно было обладать фантазией Сальвадора Дали, чтобы догадаться, кто же этот негодяй. Конечно же, это злодей Путин! А кто же ещё?! Даже уже как- то странно было бы, если вдруг НЕ Путин. Нет, можно было бы подумать ещё, что это «Петров с Башировым». Но тут всё-таки масштаб – лучшая страна в мире. Конечно, Путин. Мэр рассказал всему миру, что Путин в течение десяти лет внушал американцам, что руки мыть не нужно, что жрать грязными руками хот-доги и бургеры – это правильно. А ещё он внушал через соцсети, что вакцинация – это зло, и всячески не давал строить в Нью-Йорке канализацию и хлорировать воду. Исключительно только поэтому теперь в парке роют братские могилы, а на авианосце заразились две тысячи человек. Уловить связь авианосца и канализации было непросто, и на экране уже появился другой сюжет из Америкоссии. Лучший президент в истории Америки вещал миру, что пик пройден, подтверждая это убийственной статистикой – всего две тысячи трупов вместо трёх за сутки. Поэтому он считает, что пора возобновить чемпионат по бейсболу, а то даже ему нечем заняться вечерами. Блок новостей с просторов Родины подкупал разнообразием. Сначала для демонстрации уверенных действий московской полиции по борьбе с нарушителями самоизоляции был показан сюжет, где трое полисменов, не жалея собственного здоровья, задержали бомжа и выписали ему штраф за нарушение самоизоляции. В сюжете, правда, не объяснили, каким образом этот бомж нарушил режим. То ли вылез и далеко отошёл от мусорного бака, то ли перебрался из коробки от холодильника в коробку от телевизора, но бдительность правоохранителей внушала уверенность. Тем более, что и мягкая бумажка штрафного протокола, без сомнения, пригодится нарушителю. Далее москвичам было сообщено, что общественные туалеты как рассадники заморской заразы временно тоже закрыты. При этом почему-то не объясняли, что же делать в случае, если вдруг приспичит. Ну, например, полицейским или врачам. Или теперь и на памперсах решили заработать, как на масках? Полностью изучив ситуацию на фронтах битвы с пандемией, он выключил телевизор. Впереди был день и много дел…
Они готовились к Пасхе. Жена испекла кулич, он замариновал мясо, потом долго красили яйца, раскладывая их на большое круглое блюдо вокруг кулича. Всё было КАК ВСЕГДА. И вот это «как всегда», наверно, было главным. И не хотелось думать, что совсем даже «не как всегда», а точнее, совсем не так, как всегда. И кулич будет не освящён. И впервые не будет за семейным пасхальным столом сына, соблюдающего изоляцию отдельно у себя дома. Что не будет воскресного похода в церковь. Что даже служба сама будет впервые за всю историю христианства без верующих. Все эти мысли отгонялись и усилием воли уничтожались здоровой частью сознания, которому просто хотелось, чтобы было КАК ВСЕГДА. И, наверно, всё бы и было так, но, как часто бывает, случится какая-то нелепость в самый неподходящий момент, и закрутится другая пластинка, превращая приятно текущий день, напоенный предвкушением светлого праздника, в чехарду банальных, бестолковых, очень нервных и дурацких поступков.
Вот уже двадцать семь лет через несколько дней, как они вместе с женой отмечают вместе все праздники, а значит, уже двадцать семь лет, как жена делает определённые годами вещи. Уже давно не задумываясь и не замечая. Что произошло вчера, она не могла объяснить спустя даже сутки. Как произошёл этот сбой в матрице? Почему? Но случилось то, что случилось. Жена взяла шестилитровую кастрюлю с луковой шелухой, уже разбухшей, впитавшей воду и превратившей её в краску, и зачем-то вывалила всё это в унитаз. И, нажимая кнопку спуска, она уже в эту секунду сама поняла, что наделала, и громко вскрикнула:
– Нет! Зачем?!
Но дело было сделано, и поток потащил в глубину красно-коричневую массу, засоряя слив в трубе и превращая тихий вечер в чрезвычайную ситуацию квартирного масштаба. Её крик раненой самки тираннозавра, пробежав мурашками у него по спине, заставил его подпрыгнуть со стула и в два прыжка долететь до туалета.
– Что случилось?!
– Дура. Идиотка. Дебилка, – со слезами на глазах проговорила жена.
Проследив её наполненный ужасом и слезами взгляд, устремлённый в направлении унитаза, он тоже онемел на секунду, а потом выдал долгую тираду, которую Леонид Гайдай охарактеризовал, как «далее следует монолог из непереводимых местных идиоматических выражений».
Видя, в каком ступоре находится жена, он прокричал:
– Воду собирай! Сейчас ещё и сосед снизу обрадуется твоей затее!
То ли безупречное владение им той частью великого русского языка, с помощью которой в России выигрывают войны и перекрывают Енисей, то ли упоминание о соседе, но жена вышла из ступора и бросилась изо всех сил бороться с рукотворной стихией. Борьба была долгой. Перепробовав всё, что вбито в голову советского человека, от троса до кипятка с уксусом и содой, мокрые и почти отчаявшиеся, они пришли к выводу, что остаётся одно – снимать унитаз. И делать это нужно самим. Так как попытка вызвать аварийку и сантехника окончилась провалом. Диспетчер, явно перебравший с приёмом во внутрь отечественного антисептика, заявил, что сантехник не придет. В связи с режимом самоизоляции он тоже работает удалённо и может только проконсультировать по телефону. Перекурив и тоже приняв допинг для смелости, они приступили к демонтажу ставшей угрозой конструкции. Размеры туалета не гармонировали с размерами тел, и явно не способствовали быстрой победе. Но, тем не менее, через два часа всё было кончено. Унитаз снят, труба прочищена и унитаз установлен на свое гордое историческое место. Уставшие, но абсолютно счастливые, они сидели на кухне и молчали. Максим курил и думал.
– Как всё-таки смешно и в то же время правильно устроен мир. Начал ты размышлять над его устройством? Задаваться умными вопросами бытия? На тебе мордой в толчок! Иди вон говно откачивай, и молчи себе в трубочку. – Он рассмеялся. – Пошли спать, дорогая. Сегодня был долгий вечер.
После вымотавших и морально, и физически событий прошедшей ночи проснулись они поздно. Долго принимали душ, неторопливо завтракали. Напоенная ароматом свежеиспечённых куличей и вкусного гватемальского кофе, атмосфера кухни окутывала и погружала в приятную сладкую ленивость, которая всегда наступает после боя, тяжёлой, но выполненной работы или выигранного спортивного матча. Жена, окончательно пришедшая в себя, думая о чем-то своём, неторопливо пила кофе, по чуть-чуть откусывая от горячего бутерброда, и иногда улыбалась своим мыслям, не то смеясь над тем, что устроила сама, не то вспоминая все перипетии ночной битвы за чистоту. Налив вторую чашку и закурив, Максим улыбаясь произнёс:.
– Вспоминаешь приключения? Всё-таки смотри, как интересно устроен человек. Час назад он думает, что случилась беда, а спустя два уже смеётся сам над собой и сделанной им же самим глупостью. И это здорово. Тот, кто может смеяться над самим собой, только и может что-то сделать в этой жизни. А вообще давай завязывай с воспоминаниями. Я потом Серёжке расскажу, вот тогда и посмеемся все вместе. А сейчас давай вернёмся в реальность. Праздник то какой сегодня! Это ведь праздник, как никогда важный для того, что сейчас творится, для всей этой хрени вокруг нас. Он сейчас просто необходим. Необходим, как воздух! Это же праздник надежды и веры. И веры не только в Христа и его Воскресение, точнее, не только этой веры. А веры в большом смысле! Веры, как того, без чего нельзя вообще жить! Веры в правду, в добро, в жизнь. Веры, как чувства человека, без которого человек перестает быть человеком. Ведь вера и делает человека человеком. Вера в правду, вера в семью и свои корни, вера в страну, вера в самого себя. То есть получается, что вера и есть сама жизнь. Это слова синонимы. И если бы я писал речь для Патриарха, я именно об этом бы и говорил. А сейчас давай заканчивать завтрак. Давай ещё немножко потрудимся - на тебе салат, на мне мясо.
В огромной стране заканчивались последние приготовления к светлому празднику. Накрывались столы, зажигались свечи и лампады. Уже надевали праздничные одежды архиереи, и выносили хоругви протодьяконы. А где-то в далеком Петропавловске - Камчатском, почти на другой стороне земного шарика, уже поднялся на колокольню звонарь и, перекрестившись, потянул веревки колоколов. И сначала басовито и приглушённо, а потом всё выше и звонче, расцветая и расплываясь многоголосьем в гулкой тишине, поплыл над Великой Россией Благовест…
Солнце заливало квартиру светом, будто вдруг вспомнив, что хотя бы в праздник нужно поработать и всё-таки вернуть городу, скованному карантином, настоящую весну. Из раскрытого настежь окна вливался хотя ещё и стылый, но уже напоенный особым весеннем запахом воздух. Настоящий апрельский воздух! Такой, каким он был в детстве. Когда невозможно усидеть дома, а нужно непременно бежать на ещё не до конца просохшую площадку и с упоением играть в первый после зимы футбол, а потом гнать на велике к пруду ловить тритонов... Или поехать с дедом за город, в Опалиху, за берёзовым соком. И потом у маленького костерка слушать дедовы истории про войну или про детство в деревне. И пока дед медленно, с расстановкой и очень смачно допивал чекушку, самому с жадностью поглощать поджаренный дочерна на костре хлеб... Вспомнилось, как они любили с другом Лёнькой ездить на этюды в эти дни. В тёмных ельниках ещё лежал снег, а на пригорках уже цвели подснежники и распускалась мать-и-мачеха. Они быстро, на время, писали по короткому этюду, а потом спешили в Москву, чтобы где-нибудь в Останкинском парке выпить с друзьями портвейна... Всплыла первая после дембеля весна и вот точно такой же день. И то забытое ощущение, что вся жизнь впереди, и не убиваемым казалось чувство предстоящего счастья...
Защемило в груди. Увлажнились глаза. Надо успокоиться, всё хорошо.
– Чего это я развспоминался?! Это всё весна виновата! Весной всегда так. На то она и весна! Скоро девчонки короткие юбки оденут, скворцы прилетят, сирень зацветёт… Нет, надо всё - таки сваливать на дачу.
В кухню вошла жена.
– Дорогой, всё накрыла. Пойдём, – она улыбалась. – Сейчас включим видеотрансляцию и будем отмечать вместе с Серёжкой!
– Умница. Так и надо сделать. А потом будем звонить и всех поздравлять! Маму, тёщу. В Севастополь, во Владивосток, в Новосибирск, в Саратов, в Тамбов. Да всем позвоним! Пойдём!
Водружая графин в середину стола, Максим улыбнулся жене и уверенно произнес:
– Будем жить, любимая! Христос Воскресе!
День одуванчика.
Рассказ
- Максим, давай камин что ли затопим, а то как-то сыро в доме, сумрачно и зябко. – жена отложила в сторону спицы и нечто непонятное, ярко красного цвета, что должно было со временем материализоваться в очередной шедевр вязального искусства.
- Да уж. Так и хочется сказать «не май месяц», хотя на самом деле он самый и есть. Причём середина мая. А ощущение, словно октябрь. И на градуснике всего одиннадцать. Даже выходить не хочется. – Максим тоже поёжился и стал собирать в камине пирамидку из дров. Через минуту выпустив в пространство ароматное облако горящей бересты, дрова весело затрещали, возвращая дому заблудившийся в серости уют. – Слушай Танюш, а может и баню затопить? Ты, как любимая по поводу бани? Когда ещё париться, как не в такую погоду?
- Точно! Давай баню. Я ещё вчера хотела тебе сказать, да закрутилась. А где Серёжка? Он спит что ли опять?
- Я не сплю! – прокричал из своей комнаты сын. - Я за баню! Пап тут опять фото прислали мне с твоими стихами на футболке. Сейчас покажу.
- Вот засранцы! Те первые, хоть с указанием автора печатали. А эти даже не заморачиваются. – ухмыльнулся Максим, глядя в экран ноутбука. На фотографии сделанной кем-то из друзей сына на Арбате, среди всевозможных футболок, с многочисленными изображениями известных лиц, от Сталина до Путина, всевозможных «типа смешных мемов» и маразматических выражений, вроде « я люблю любовь» или «мы свободны», действительно висела белая футболка с его четверостишьем написанном весной 2014 года, после Крыма и всего что началось потом. И посвящённое всей пятой колонне, которая дружными рядами вдруг вынырнули из мути и принялись истошно верещать голосами актрисы Ахеджаковой и «типа» музыканта Макаревича. Надпись, выполненная чётким, чёрным шрифтом гласила:
Мы любить Россию не просили.
Ваша нелюбовь к нам не беда.
Если вам не нравится Россия,
Есть дорога на х.. господа!
- Ну что тут скажешь сынок?! Наверно это и есть слава. Точнее не слава, а признание. Народное признание. Самая верхняя ступень признания. Только для меня оно очень грустное. Я написал около ста стихов, а известным стало вот это одно четверостишье. Кто-то перепостил его в одноклассниках, размножил и оно пошло гулять. Мы с Мамой просто обалдели, когда в Крыму в том же 2014 м году, увидели его на задних стёклах очень многих автомобилей. С одной стороны гордость. А с другой хотелось всем встречным объяснять, да что там объяснять - орать хотелось! «Люди это же Я написал! Я!». И не деньги тут главное, за такое денег не берут – западло. Просто хочется, чтобы подошли пожали руку, сказали спасибо. Хотя понятно, что я не первый в такой ситуации, и всё это старо, как мир. Вот поём мы песни. Музыка «народная», слова типа тоже «народные», это как? Ну про музыку ещё, как-то возможно. Один сыграл на гармошке, второй переделал, третий добавил проигрыш, четвёртый придумал припев повторять и проигрывать. Кто-то по грамотней и по хитрей, на различные инструменты разложил. Допустим возможно. Хотя я и тут считаю, что кто-то один был, кто подобрал и положил слова на музыку. А с текстом то вообще ерунда получается! Это как «слова народные»?! Народ собрался всем гуртом на вече и стал слова сочинять? Или я строчку придумал, за мной ты, потом Ваня с соседней улицы, потом Прокоп с Васей из другого города строку добавили. Так что ли? Бред! Понятно, что был конкретный автор, который написал стихи. Но никто его не знает. Песня живёт. Может и не одну уже сотню лет живёт, а автора никто не знает. А раз поют до сих пор, то великий же был поэт! Думаешь ему не обидно было при жизни? Думаю обидно. Но что тут сделаешь?! Россия. Мы жене пиндосы. Это у них мы Шекспира знаем с шестнадцатого века. А у нас, спел на свадьбе или в кабаке, порадовал людей, доставил удовольствие, поднесли стакан, спасибо сказали, ну и здорово.
- И что пап? Неужели тебе никогда не хотелось славы? Это же твоя, и только твоя интеллектуальная собственность! Твоё сердце, твоя душа, твой талант!
Максим подбросил ещё пару поленьев в жерло разогревающегося камина, задумался на пару секунд, уставившись на пляшущие языки пламени, и ответил:
- Ну почему же не хотелось? Ещё как хотелось! Да и сейчас хочется. Но с годами, я понял, что не это главное. Абсолютно не главное! Я молодой был, всем подряд свои стихи читал. И дарил с автографом. Ну, а как?! Друзья же! А потом сколько моих виршей в стихах известных поэтов вдруг оказалось! Кто-то ведь из тех самых «друзей» и сдал их. А может и продал. Я тебе рассказывал, про всё это. Не хочу повторяться. Меня в молодости не это бесило. Меня корёжило почему меня не печатают. Приношу в «Современник», мне говорят: «Стихи хорошие, но они не подходят нашему журналу, они очень демократические. Против нашего красного патриотического журнала.». Несу в «Огонёк» или «Юность», а там противоположенное: «Ваши стихи интересные, но они явно красно-коричневые! И идут в разрез с делом перестройки». Хотя та же «Юность» мне второе место отдала в конкурсе молодых поэтов. Но только лирику хотели печатать, а я хотел другого. По телевизору даже показали в числе пяти самых лучших молодых поэтов. И что? Думаешь кто ни будь взял печатать? Хрена лысого! Это сейчас иди заплати деньги и тебя напечатают, хоть ты напиши инструкцию, как Кремль взорвать или голову человеку отрезать. И чем больше будет мата, грязи и секса, тем быстрее напечатают. Главное, чтобы продать побыстрее, и бабла срубить побольше. И я бросил писать. Просто сам взял и бросил. Так же и с живописью. Я писал картины на историческую тему. Но это не кому не нужно! Мне так и говорили в салонах, «У вас хорошая техника, цвет, композиция. Мастерство на уровне. Но вы поймите, это никто не купит. Вы приносите пейзажи, лес, море, или голых баб. Это покупают. А кто повесит у себя в гостиной вашего Ивана Грозного? Это же страшно! Вон какие у него глазища! Ночью ребёнок увидит и заикой останется!» А зачем мне писать то, что мне не хочется? Ради денег? Так я же всегда работал, деньги зарабатывал. Иногда и большие. Тогда зачем мне делать то, что я не люблю? Ради того, чтобы стать модным салонным художником? И писать по сто раз «мишек в сосновом бору» или «куртизанок в гареме султана»? Или стать этим, как его… «поэтом песенником». Автором для какого ни будь Киркорова или Стаса Михайлова? Я не хочу. Для меня искусство это искусство, а ремесло — это ремесло. И это две вещи, для меня не совместимые. Люди живут этим, ну и дай им Бог, я ни в коей мере не осуждаю! Пусть косят бабло за свои «моря- якоря» и «пальто- полупальто». Просто не хочу, никогда не хотел, и надеюсь уже не захочу этого делать. Для меня всегда была примером жизнь Грибоедова. По мне так самый талантливый после Пушкина человек, погиб на государевой службе, отстаивая интересы России. Я с огромным уважением отношусь к Денису Давыдову, к Льву Николаевичу Толстому, которые Родине служили. И просто презираю до желания застрелить, например того же Солженицына, обливавшего помоями свою Родину. Ведь слова о том, что поэт в России больше, чем поэт, для меня абсолютно правильные слова. Аксиома. Помнишь, как у Тарковского в «Андрее Рублёве»? Когда в самом конце Солоницын говорит Бурляеву: «Вот и пойдём мы с тобой по Руси. Ты колокола лить, я иконы писать. Людям счастье и радость дарить». Для меня любой художник. Я имею в большом смысле художник. Это человек, который заставляет человека задуматься, дарит людям радость, заставляет плакать или смеяться. То есть бередит душу и сердце. Входит к ним в каждую клеточку их сознания, и остаётся там на всегда, делая человека чище и лучше. Хоть на грамм, хоть на йоту, хоть на капельку малюсенькую, но лучше. А всё остальное это не искусство, это то, что у пиндосов обозначается словом «дизайн». Есть модерн гениального Шехтеля, а есть «дизайн в стиле модерн» телепередачи «Дачный ответ». И это две большие разницы. И поэтому есть художник Шолохов, а есть «дизайнер» Солженицын. Есть Бунин, Куприн и Горький, все очень разные, но они художники! А есть «дизайнер» Набоков. И если у меня не получилось стать художником, то дизайнером я уж точно быть не хочу.
- Ну вот опять ты всё грустно закончил пап! Лучше бы я тебе и не показывал ничего. Ты чего? Вот напечатаешь свою повесть, и дальше будешь писать. Я думаю, что всё будет хорошо. Должно быть хорошо. Повесть то реально классная! Правда мам?
- Да не слушай ты его. Это на него погода так действует. Когда такая погода, он всегда впадает в депрессию. Сейчас махнёт пару рюмок и станет весёлым.
Максим грустно улыбнулся.
– Наверно ты права. Но если в баню решили идти, какая может быть рюмка?! Вот после бани, сам Бог велел. Как говаривал Александр Васильевич Суворов «После бани, хоть последние портки продай, а водки выпей!». Пойдём сын, баню затопим.
Максим встал и накинув кофту пошёл к выходу. Вдруг он резко остановился, сделал пару шагов назад и посмотрев пристально на отрывной календарь, расхохотался.
- Вы посмотрите какой сегодня праздник! Сегодня оказывается у нас «День Одуванчика»! А ведь это так символично сынок! Мы с тобой тут о славе и творчестве разговаривали. Так вот слушай что я скажу в заключение. Ставя, так сказать красивую точку в этих своих долгих рассуждениях. Слава это, как одуванчик. Вот есть она у человека, эта слава. И кажется, что она большая, пышная и чистая. Как шапка одуванчика. А подует ветер и слетит эта корона с его головы. И стоит он голый и беззащитный. Потому что не было у него ничего, кроме этой дутой славы. И тут самое главное то, куда разлетятся все эти невесомые семена - зонтики, уносимые безжалостным ветром. Попадут ли они в хорошую почву и поднимутся новыми всходами весной, радуя человеческий глаз и лаская душу ярким золотым ковром или так и засохнут бесполезные, где ни будь в грязи дороги, без всяких шансов на продолжение жизни. Обалденный праздник! Философский и трогательный одновременно! Буду его теперь каждый год отмечать!
И Максим опять рассмеялся. Но теперь уже совсем по-другому - весело и задорно.
Биография - читать далее
Лауреат и победитель многих литературных конкурсов, лонг-листер премии «Дебют» 2013 г. и премии им. Исаака Бабеля 2021г. Дипломант премии «ДИАС-2022». Вошла в топ-20 конкурса «Кубок Брэдбери-2022». В 2023 г. в конкурсе «Кубок Брэдбери-2023» заняла второе место в номинации «мистика/хоррор». Лауреат премии им. А. Серафимовича в номинации «Лучший автор развлекательной прозы». Победитель конкурса от Литрес «Лето нашего двора» в 2023 г. Победитель международного конкурса фантастики и фэнтези 2023-2024 гг. «Вместе вопреки, или метаморфозы отношений». Победитель конкурса «Созвездие-2024».
В своем литературном багаже имеет два романа и больше ста пятидесяти рассказов, работает в разных жанрах. Входит в Пантеон сообщества «Всего лишь писатель». Издавалась в России и за рубежом.
В своем литературном багаже имеет два романа и больше ста пятидесяти рассказов, работает в разных жанрах. Входит в Пантеон сообщества «Всего лишь писатель». Издавалась в России и за рубежом.
Е.М.МАЮЧАЯ - Произведения ⤵️
Русалка
Рассказ
Глупые люди! Они думают, что любовь есть, а русалок нет.
Ганс Христиан Андерсен
Настоящая бабушка у меня была одна. Остальные – сколько-то юродные, открыточные, новогодние, первомайские. Или прощально-телеграммные: «Похороны 12 октября, тчк…». Они жили далеко: за Уралом, за третьим мужем, за банками вишневого конфитюра на антресолях – черно-белые, старомодно одетые, взывающие «на память…». С ними не возникало трудностей: мне не было дела до них, а им до меня. Возможно, даже я им нравился – никакого шума и грязи, этакий аккуратный немой внучок, не требующий сладкой ваты и воспитания.
А вот бабе Свете я приносил одни разочарования. Если закрыть глаза и вслушаться в недовольное бурчание многолетней давности, то можно представить меня: «Не нужен никому, кроме бабушки, сплошная болячка, умирает от истощения, несчастный ребенок с золотухой, и гланды вон какие рыхлые…». По мнению бабушки, хвори мои происходили по единственной причине: «Мать кормит всяким дерьмом». К здоровой пище причислялся борщ, багровый от бабушкиной энергичности и свекольной зажарки, перловая каша на молоке, паровые котлеты из камбалы и компот из персиков. Компот я любил, но употребление его со всеми прочими блюдами приводило к активной деятельности кишечника, поэтому несколько раз в день я видел шикарное южное солнце через щели в нужнике.
Мне завидовали в садике: воспитатели, нянечки, дети, хлюпающие под носом зеленым киселем и рассматривающие ветряные тюрьмы ракушек, – бабушка живет на юге в своем доме! А мне хотелось топать ногами от обиды или что-нибудь сломать. Юг был для всех, кроме меня. Загорал я чересчур ярко – до цвета июльского заката, а после на коже лопались влажные пузыри. Поэтому солнечные ванны я принимал на скамеечке под старой грушей, строго с восьми до десяти утра. И купался не в море, а в тазу с вонючим дегтярным мылом.
– Паршу твою хоть подсушит, а в море все ссут! – утешала баба Света. – На карусели завтра пойдем?
И ни разу не сходили! Легкий морской бриз казался бабушке смертельным для моих «ослабленных» легких, а мелкие ошметки туч предвещали месячную норму осадков. Тучи проходили стороной, а с ними и насыщенный летний отдых. Я не мог даже телевизор посмотреть! Бабушка его продала. Чтобы квартиросъёмщики электричество не жгли – объяснила она. Ах да, всё лето мы жили не в доме, и даже не на веранде, а в сарае. Остальная площадь сдавалась – бабушка вела накопительный образ жизни, и вся суть моего унылого южного существования измерялась эквивалентно нолям на сберкнижке.
– Тебе ж на машину собираю! Или на похороны, если не успею, – добавляла она.
Умирать в пять лет ужасно не хотелось. Я рыдал, уткнувшись в бескрайний, как море, бабушкин живот в синем переднике.
– Ну что делать? Все рано или поздно умрем. Пойдем-ка Нину Алексеевну проведаем, пока не поздно, – подбадривала она. – Надевай быстрее матроску…
Матроску за несколько лет подряд я успел возненавидеть всем сердцем. Пытался ее «потерять» – баба Света находила, сажал надежные черешневые пятна – «Персоль» и бабушкины руки оказывались сильнее, я даже неожиданно вырос – увы, она сшила новую, с запасом. Кроме того на вещах бабушка не экономила и использовала только добротную колючую ткань, отчего я сезонно чесался, и идя по набережной к дому Нины Алексеевны дергался, как больной хореей.
– Какой нервный ребенок, – бабушкина подруга качала головой, увенчанной шишкой цвета переспевшей хурмы. – Поиграй лучше с котом. Или вот, помоги-ка мне, полей цветы.
Поцарапанный котом и кактусами я, потихоньку скуля, «успокаивался» в кресле-качалке. Мне хотелось раскачаться сильно-сильно и вылететь из распахнутого окна навстречу пахнущему йодом ветру, солнцу и… маме. Но не суждено. Нина Алексеевна звала отобедать сельдью «горчичного» посола, которой насквозь пропахла. Вместо отварной картошки подсовывала полезный и жесткий рис, по цвету напоминающий старческие пятнышки на ее коже. Мне казалось, что ем Нину Алексеевну, я давился и плевался ее костями.
Но какое южное лето без чудес – Нина Алексеевна поскользнулась на кошачьем котяхе и вывихнула ногу. В больнице она завещала бабушке свою работу горничной в пансионате. На две недели.
– Ума не приложу, что с тобой теперь делать. Мать надо вызывать, пусть забирает, э-э-эх, на карусели так и не сходили, – бабушка естественно приняла предложение подзаработать и избавиться от внучатого балласта.
– Не надо! – взмолился я. – Я большой! Ты же только на полдня! Я посижу один! Я буду хорошо себя вести! Не надо!
Не знаю почему, то ли мама не смогла взять пару отгулов, то ли баба Света поверила мне, но я остался. Неожиданно во мне проснулся актерский талант. Никогда я еще не сидел так смирно на лавочке под грушей, не ел с таким аппетитом огненную лаву борща, никогда так преданно не смотрел в хитрые бабушкины глаза и так долго не махал ей в след, одетый в матросочку. Которая уже через полчаса висела на стуле, а я висел на грушевой ветке. И бесполезно бабушкин фантом, запутавшись в паутине солнечных лучиков, грозил мне кулаком. В те минуты я молился за здравие кота Нина Алексеевны, который подарил мне настоящее южное детство, открыл мир вне сарая, вне периметра сада, вне окружности бабушки.
В этом мире туи доставали до самых облаков, чайки выхватывали из рук кусочки хлеба и паровые котлеты из камбалы, дети откусывали ледяное мороженое большими кусками, а не ждали когда по тарелке поплывет вафельный плот, а еще в этом мире были скалы, похожие на поломанную халву, и берег с прибоем из рапанов, соленых брызг и морских узлов водорослей.
Я нашел собственный юг – крохотную бухту, попасть в которую можно карабкаясь по почти отвесным стенам, либо, как я, протиснувшись в узкую щель – тропу, созданную между камнями шершавым языком ветра. Здесь все было мое, не курортное, не общее: овальная тарелка белого пляжа, без окурков и забытых игрушек, лимонная долька солнца, выглядывавшего из-за скалы, перевернутая полусгнившая лодка – теперь дом для мраморных крабов, и горизонт с неизвестной глубиной.
От высокой скалы падала длинная остроугольная тень – моя двухнедельная защита от предательских солнечных ласк. Я выкладывал из черных плоских камушков магические послания, я устроил приморский рынок и выменивал сам у себя большую ракушку за пригоршню маленьких, я стал местным песчаным феодалом и воевал с прибоем, заманивая волны-лазутчицы в глубокие рвы. Через десять дней сказка должна была закончиться. Но она только началась.
Морская дева сидела на самом краешке лба черноголового утеса. И горько плакала. Ветер расчесывал ее волосы солнечным гребнем, и море тянуло прозрачные руки к ее серебристому телу. На минуту я оцепенел, с усилием проглотил застрявшее в горле сердце и закричал «русалка-а-а-а». Чайки растащили крик на кусочки, бросили в пучину, и лишь «а-а-а» закружилось прямо над головой. Русалка затихла и огляделась вокруг. Обгоняя самую быструю мысль об опасности, я метнулся к подножию утеса и, раскорячившись, как баба Света в огороде, начал карабкаться вверх. Такой шанс выпадает раз в жизни, я хотел подобраться поближе, хотел разглядеть ее лицо, хотел прикоснуться к коже. И сказать «не плачь, в море и так много воды».
До вершины оставалось каких-то два-три метра. Я попал в сказку, в сказках надо идти прямо и надеяться только на себя, нельзя оборачиваться на двадцатиметровую реальность. От нее на руках появляются скользкие невидимые перчатки, а ноги становятся огромными, как у слона, – для них больше не достаточно узких выступов, и вот ты лишь жалко перебираешь ими, сдирая с головы утеса каменистую перхоть. Чайка, таскавшая в морщинистых лапках последнюю «а», села в полуметре от меня, на минуту скорбно замолчала, а потом взлетела, на прощание касаясь моего лица крылом. Мир перевернулся, с неба посыпались солнце, облака и я. Плавать я не умел.
Солнце и облака остались дрейфовать на поверхности, едва качаясь на волнах, а меня все глубже затягивала синяя глотка. Я кружился и переворачивался, как космонавт в невесомости, а потом всплыл, булькнул «мама», хлебнул «спасите» и, проглотив «на помощь», маленькой субмариной пошел на глубину. Мимо меня проплыли пара сельдей, выбравшихся из горчичного рассола, скат в синем переднике, в огромной раковине свернулся жемчужный кот, прошмыгнула стайка круглых цветных рыбок, похожих на яйца, которые красят на Пасху и приносят на кладбище… И русалка. Она протягивала руки, светлые волосы ее тянулись ко мне, но течение тащило дальше, в глазах, как в испорченном телевизоре, появилась серая рябь, в груди стало тесно, и захотелось заснуть беспробудным морским сном…
Очнулся от прежде неизведанного: русалка целовала меня жадным поцелуем. Ее выдох смешался с моим вдохом, я увидел в прозрачных фьордах ее глаз скалы, море, бледного себя, услышал, как кровь бьется в висках «жив, жив, жив». И море, смешавшись с борщом, вышло из меня розовой пеной.
– Ну ты даешь, пацан! – сказала русалка, и, раскинув руки, упала на песок. – Еле откачала. Ну ты даешь!
– Ты настоящая? – спросил я.
– Была б не настоящая, крабов уже кормил, – хохотнула она. – Приезжий? Хотя зачем спрашиваю. Белый, как молоко.
Я посмотрел на свои руки и кивнул, на ладошках от воды появилась морщинистая пенка, а по коже, поднимая волоски, пробежала холодная волна.
– Замерз? А ну снимай футболку и штаны, – и прибавила. – И трусы тоже. Шуруй на солнце, побегай, попрыгай, а то у тебя губы как у утопленника, – и звонко рассмеялась.
Трусы снимать я категорически отказался.
– Стыдливый какой, – снова рассмеялась русалка. – Ну и ходи в мокрых, – и, взяв мои вещи, направилась к воде.
Я завороженно смотрел, как русалка стащила через голову чешую и, прополоскав вместе с моей простой человеческой одежкой и отжав, раскинула на плоском, будто подошва утюга, валуне. А сама бросилась в море, нырнула, исчезла, появилась на самом гребне, держа в руках алую звезду. Потом соскочила с волны, будто с подножки кареты, и, закутавшись, в длинную тину волос, вернулась на берег. Мое сердце окровавленной пичугой билось о костяные прутья: русалка была бессовестно прекрасна, а я – бессовестно мал. Или нет? Ведь сказала же она, проходя мимо: «Пацан, закрой рот», когда я уставился на девичий сосок, выглянувший в прореху мокрых волос.
Русалка устроилась на камне и поманила пальцем:
– Слушай, пацан, ты чего в воду полез, если плавать не умеешь? И вообще, что ты здесь делаешь один, без взрослых?
Я сказал, что полез не в воду, а на утес. Что баба Света на работе, мама в другом городе и тоже на работе, а где сейчас мой отец, никто не говорит. Заодно я рассказал про всю свою недолгую жизнь: на прошлый Новый год хотел щенка, а получил цигейковую шапку, в следующий раз загадаю наоборот, на лбу «сладкий», как говорит бабушка, шрам – полез на буфет за сгущенкой, мама пишет докторскую, но почему-то инженер и никого не лечит. И что, когда вырасту, объезжу весь свет и буду Сенкевичем, только не лысым.
– А почему ты плакала? – спросил я.
– Из-за хвоста. Из техникума выперли, со справкой – вздохнула она. – Надо было вовремя сдавать.
– Из техникума? – переспросил я.
Что такое «техникум» я не знал. Но заканчивалось это слово на «ум», как и аквариум. Поэтому техникум показался мне чем-то вроде огромного аквариума для русалок. В котором они должны были подтягивать хвосты. А иначе выгоняли со справкой: вот вам обычные ноги, а про хвост забудьте. Мне было жаль русалку – она не могла вернуться в техникум, чтобы плавать со своими подругами и дельфинами, вплетать в волосы жемчужные нити и извлекать морские симфонии из низкоголосых раковин. Тут, понятное дело, и не так зарыдаешь.
– Теперь у меня выбор невелик: или на рыбозавод, или замуж за Кемаля, пока зовет, – продолжала русалка. – Такие вот дела, пацан.
А вот что такое рыбозавод я, к ужасу, знал. Когда моя мама была с меня ростом, баба Света работала на рыбозаводе. Там издевались над крабами и рыбой самыми жуткими способами: отрубали головы, вытаскивали позвоночники, вытягивали красно-коричневые веревочки кишок, заливали маслом… Чтобы потом продать в магазине в железных банках с именами, фотографиями и датами смерти: «скумбрия в масле, 14. 05. 1983», «бычки в томате, 12.07.1980»… Я представил консервную банку с изображением прекрасной русалки, а потом жирного облизывающего кота Нины Алексеевны, и сердце мое сжал венец из кактуса, а из носа выскочила сопля.
– Эй, ты чего? Запоздалый шок? Бывает. Иди сюда, – и притянула меня к себе.
Я рисовал на ее янтарной коже изумрудные мазки и вдыхал свежий, женский, волшебный запах волос. Время было моим врагом, я не успевал вырасти и стать принцем, чтобы прямо здесь и сейчас, в нашей (уже нашей!) бухточке пасть на колено и предложить ей руку, сердце и целый мир. Но ничего все-таки не происходит бесследно, ибо я за какой-то час превратился из мальчика в пацана, всего за час.
– На рыбозавод нельзя! – я растер по лицу липкую боль первой в жизни потери. – Лучше замуж! – и, разбиваясь в ее глазах на два «я», спросил. – Он увезет тебя в далекие страны?
Русалка сжала между бровей тонкую морщинку, хмыкнула и свернула кукиш:
– Вот такие меня ждут далекие страны! Увезет к своей маме в горы, а сам будет пить и гулять. Козел!
– За козла не надо! Надо за принца! – сказал я.
– Этот козел тоже древнего горского роду. Все принцы давно женаты или работают в порту грузчиками. А у этого ко-о-пе-ра-тив! Буду с его матерью печь лепешки и прятать деньги в сундуки, всё равно их негде будет потратить. Такие дела, пацан, такие дела. Домой пора. Скоро Кемаль придет, надо кольца покупать, – и, махнув рукой, спрыгнула с камня, надела чешую на тоненьких бретельках, поправила льняные пряди волос. – Веди к выходу!
Я одевался как можно медленнее, боялся, что больше не увижу русалку. Хотел, чтобы она не смогла протиснуться меж скал и стала бы моей пленницей навсегда. Но она проскользнула блестящей гибкой медянкой и уже издалека, обернувшись, крикнула: «Пока, пацан. Обещай, что не будешь козлом. Лучше Сенкевичем».
Вечером бабушка принесла двоякую новость: скоро приедет мама. Я чувствовал себя предателем собственной матери и желал, чтобы не было билетов. И по-настоящему тонул, стоя посреди сухого деревянного сарая. Ведь там, в бухте я впервые поплыл. В первый раз так замечательно плыть. Даже просто так, безо всякой надежды.
Я желал видеть свою русалку и просил ночь включить долгий фильм о ней. Но вместо русалки приснился козел. С короной на рогах и золотым кольцом в носу. Он жевал траву и противно мекал «коопе-е-е-ератив». Утром баба Света сказала, что во сне я будто кого-то пинал.
Днем я вспомнил, что на хорошую погоду надо кинуть копеечку, променять стакан газировки без сиропа на безоблачное небо. «На русалку» я был готов пожертвовать рубль. Из бабушкиного кошелька. Верил, что счастье можно украсть. Вечером баба Света спросила, не видел ли я случайно «денюжку с Лениным», обыскала мои карманы и даже вспорола подкладку у сумки, в надежде обнаружить Ильича там. Но нет. Вождь пролетариата лежал на дне морском, как утонувший клад с пиратского фрегата, – железный гарант новой встречи с русалкой.
Обещанного три дня ждут. Я ходил в бухту. Но забросил прибрежное строительство. Я трогал ладошками тот камень, на котором сидела русалка. Смотрел на линию горизонта и думал, почему нельзя заглянуть за нее. Специально изо всех сил давил ступнями на песок, чтобы русалка увидела, – я жду. По ночам слушал цикад и бабушкин храп, как ветер поет ржавые песни под дверью сарая и просится внутрь, как пароходы в порту будят заспанное утро первыми гудками. Одержимый любовной тоской я с пристрастием разглядывал худосочную зеркальную плоть и впервые был собой недоволен: похож на коралловую ветвь – кривой и ветвистый.
Три вечера подряд надежда отваливалась, как хвост у ящерицы, но лишь для того чтобы утром снова отрасти. Бабушка сказала, что ночами я звал «какую-то Алку». И русалка услышала и пришла.
– Привет, пацан, – помахала она, выходя из моря и переливаясь в водно-солнечной взвеси. – Хороший пляж, спасибо, что показал лазейку. Я вот местная и не знала, как сюда попасть. А со скал каждый раз не напрыгаешься.
Я подскочил, так высоко, что практически достал ладошками желтый мяч в небе, потом побежал наперегонки с ветром, не обращая на обидное «шиш», которое он шептал мне в уши. Я почувствовал себя самым красивым, сильным и ловким. А еще от счастья очень захотелось писать. Пришлось быстренько раздеться и поступить как курортник.
– Ты бываешь тут каждый день? (я кивнул) Тогда завтра принесу тебе подарок, – пообещала она, глядя на мои омовения по пояс. – И не буду переживать, что снова утонешь.
У меня так перехватило дыхание, что между ребрами увеличились щели. Она переживает, она придет завтра. С подарком!
Вдали, между морем и облаками проплыл многоэтажный лайнер.
– А мне свадебное путешествие не светит, – вздохнула русалка. – И вообще, я стою всего лишь как видеомагнитофон. Кемаль вчера матери притащил. И кассеты с фильмами. Французскими.
– Про что? – поинтересовался я, присаживаясь рядом с ней.
–Тебе такие пока нельзя смотреть, – улыбнулась русалка. – Ты еще маленький. Сколько тебе лет?
Я нагло прибавил себе два года и быстренько присыпал песком детсадовские трусы с мишками. А она рассказывала, какое будет свадебное платье, рисуя пальцами в воздухе то маленькие волны, то шторм. И еще, что не хочет такой наряд, потому что будет похожа на мертвый атласный цветок. И что Кемаль против девичника, где можно плакать на плече у незамужних подружек и пить шампанское прямо из горла. В последний раз. И больше нельзя носить короткое и с глубоким вырезом, и блестящее, и каблуки тоже. А нужно только при-лич-ное!
Я ненавидел человека, которого даже не видел. Этого при-лич-ного Кемаля. Как этот горный козел не понимает?! Ведь я – пятилетний – и то! В детстве так легко понять абсолютно все, это у взрослых даже самое простое становится сложным и путанным. Она не может без чешуи с глубоким вырезом! Она уже потеряла хвост, а теперь должна отказаться еще и от каблуков? Она не может без подружек и шампанского – они часть ее морской жизни. Она создана для того чтобы сверкать, смеяться, в обнимку с дельфинами покорять морские дали и доплыть до горизонта. Но ее главная миссия – спасать маленьких пацанов. Такая простая морская истина: она – РУСАЛКА!
– Пацан, ты чего совсем раскис? Давай лучше поиграем. Во что любишь?
– В шахматы, – зачем-то соврал я.
– Ну-у-у, где мы тут шахматы возьмем? Давай что-нибудь попроще? Кто дальше кинет камень, а?
Она не подыгрывала, как мама. И было замечательно, что надо стараться изо всех сил, чтобы не продуть с позорным счетом. Ее камушки, как зайцы, прыгали и скакали по воде, а мои тяжело плюхались и шли ко дну. В «кто дальше плюнет» и вовсе оказалась искусной плевуньей, я же захаркал только собственную тень. Потом мы играли в «море волнуется раз, море волнуется два»…
А бабушка играла в найди «чахлого внука». Я заметил ее на перекрестке: груженная продуктами баржа «Баба Света» шла прямо по курсу. Обогнуть незаметно и первым достичь калитки. Но на это ни малейшего шанса – улочка была узкой, а бабушка широкой. Пришлось менять тактику, идти в обход. Чтобы немного сократить расстояние, я попер напролом – через крапиву. Я сражался с кусачей ордой изо всех сил, топча ногами и снося верхушки палкой, но был ранен – жестоко, багрово, до волдырей. И, главное, все зря. Только я сунул голову между досок забора, как тут же был схвачен за ухо.
– Ах ты, паршивец! – радостно взвизгнула баба Света. – Так-то ты дома сидишь?! Ай-яй-яй! Нехорошо старших обманывать!
– Я только на минуточку, посмотреть, – оправдывался я.
– Послезавтра приезжает твоя мать, – баба Света произнесла «твоя мать» тоном, как будто моя мама никогда не была ее дочерью. – Пусть забирает такого внучка к чертовой бабушке!
И тут что-то дикое, первобытное взыграло во мне, я дернул головой, освобождая ухо, и заорал:
– Ну и пожалуйста! У чертовой бабушки и то лучше! Даже в садике лучше! Я… Я больше никогда к тебе не приеду! И матроску не надену! – я бил наверняка. – Я – пацан!
Бабушка посмотрела на меня, как на сверчка, давшего скрипичный концерт посреди бела дня:
– Смотрите-ка, пожалуйста, пацан! – удивилась она. – Но в углу постоять все-таки придется!
Против углов я ничего плохого не имел. В углах можно поковырять обои, освободить муху, запутавшуюся в паучьих интригах, или просто попинать плинтус. Но только не в тот раз. Я сгорал заживо. Полыхало ухо, зудели крапивные метки. И, конечно же, жарким пламенем горело мое пацанское сердце.
Пока солнечная медуза погружала щупальца в море, я думал о подарке. Что это будет? Редкая жемчужина, которая стоит больше десятка кооперативов? Корона золотой рыбки, чтобы не пришлось самому закидывать невод в море? А может трезубец, чтобы возвращать русалкам хвосты и пронзить Кемаля, а заодно отменить послезавтра…
Действительность же оказалась иной. Надувной. В виде желтой утки с глазом, накрест залатанным черной изолентой.
– Батя «88»-м клеил. Не бойся, не пропускает, – подбодрила русалка. – Ну что, поплыли? – и скинула с себя сеть из серебряных нитей. – Сама вязала. Вот (вздохнула), в последний раз надела. Нравится?
– Очень, – кивнул я. – Надежная?
– Говорю же, не потонешь, – и напялила на меня спасательную утку.
– Я о сети, – буркнул я.
– А-а-а. Вполне надежная. Сколько я на нее красавчиков поймала! Люрекс никогда не подводит! – подмигнула русалка и ткнула в драгоценные нити.
И тут мне открылась умопомрачительная тайна. У мамы тоже была кофта с люрексом, на пуговках. Значит, и мама... Правда, никто не ловился.
– Вообще-то подводит, – и поведал про мамины неудачи, мол, только раз пьяный в «Пельменной» пристал.
– М-да, в «Пельменной» ценной рыбы нет, пусть в ресторанах пробует. Пуговицы для старух – отрезать и выбросить, ячейки надо покрупнее, и на голое тело. Такая рыбалка начнется! – русалка прищелкнула языком, а потом задумалась. – Хотя маме можно и не на голое.
Море не желало принимать гадкого утенка и пыталось вытолкнуть на берег. Ревновало за каждое прикосновение к русалке, кружащей рядом. Как же мне хотелось сорвать траурный крест с непотопляемой птицы, увы, батя русалки разбирался в клеях. Тогда море залилось в уши, чтобы я оглох и не мог слышать свою русалку. Но я не сдавался! Развернул крякву против волн, лупил воду ладонями – наотмашь и ребром, и снова обрел слух, попрыгав на одной ноге. А потом мой надувной инвалид начал пускать пузыри откуда-то из-под хвоста. Русалка хохотала и кричала: «Признавайся, пацан, это ты». Мне было стыдно так, что захотелось заклеить у бесстыжей птицы еще и жопу. Чтобы отвлечь внимание от срамной утки, я сделал деловое лицо и сказал:
– Завтра моя мама приезжает. Мы будем кататься на канатной дороге. И будем купаться. На другом пляже. И пить кислородный коктейль. А потом…
– В субботу в три у меня регистрация. Я больше не смогу сюда прийти, понимаешь? Жаль, правда? – и грустно улыбнулась.
Я погрузил лицо в воду, сделал вид, что рассматриваю мальков. А сам плакал, беззвучно и отчаянно. И море вдруг стало моим союзником. В море не видно даже русалочьих слез, что уж говорить о человеческих.
На берегу мы построили наш общий дом: неказистый и песочный. Без окон и дверей. Без единого деревца. Но все равно настоящий. А потом, смеясь, сломали наивную курортную мечту.
– Мы больше никогда не увидимся? – в полном отчаянье спросил я. – Даже в последний раз?
– Обещаешь не реветь? – она погладила меня по волосам. – Терпеть не могу прощаться навсегда. Поэтому в субботу до обеда я забегу сюда, чтобы мы сказали друг другу «до свидания», – и поцеловала долгим нежным поцелуем. В лоб.
Мы спрятали утку в камнях и написали на песке «Я +Ты». Без имен, без знака равно. Мы придумали формулу нашей морской бесконечности.
– Имена можно забыть, любовь может закончиться. А я и ты останемся, – сказала напоследок русалка и, путаясь в собственной сети, убежала. Не оборачиваясь.
Горизонт был чист и светел. Если бы я мог до него доплыть, то увидел – у него нет конца. У горизонта есть только начало.
Мама приехала не одна. В поезд без билета забралась плохая погода. Скрываясь от контролеров в багажном вагоне, притащилась из наших темных оврагов и выпала затянувшимся до самого субботнего утра дождем. Вот вам и канатная дорога.
На несколько дней сарай превратился в батискаф. По стеклам иллюминаторов текла и текла вода. Мир за бортом больше не кричал птичьими и детскими голосами, а лишь шелестел и хлюпал. У мамы ломило виски, у бабушки суставы, даже у морского дьявола ломило плавники.
Дождь смыл с набережной зной и ситцевые толпы отдыхающих. Под зонтом скучали дрессированный фотограф и мартышка в матроске, очень похожей на мою. И дым от мангалов стал едва уловимым и размытым от сырости. Свернувшись калачиком, накрывшись пледом, дремала Нина Алексеевна, и, свернувшись клубком, накрыв нос хвостом, дремал кот. Облака превращались в капли, капли становились ручьями, ручьи потоками, потоки реками, реки стекались в море. А море снова превращалось в облака. В этом зыбком и плавучем мире стабильными и уверенно вкусными были лишь мамины макароны «по-флотски».
Вечера мы коротали за сухопутными играми. Я победил в «съедобное-несъедобное», накормив маму и бабу Свету то кефалью, то Кемалем. Мама в «камни-ножницы-бумага». Бабушка в «глухой телефон». Но настроение было такое, словно мы все проиграли.
По ночам тускло светили мутные звезды и опухшая от выпитой воды луна. И сны выползали из-под подушки не южные, а про родной и холодный город, виделись рябиновые искры и кленовые ладони в знакомом сквере, а не белый песок, и снилась не прекрасная русалка, а просто ребята со двора. И просыпаться почему-то совсем не хотелось…
Хорошая погода вернулась лишь в день отъезда, который, как назло, оказался субботой. Заколдованный южный городок спасли туристы, накупив фруктов на рынке, и вода отступила. Солнце скакало по мраморным перилам, по лежакам на пляже, фотографировалось вместе с мартышкой и вместо парусов поднимало на лодках акварельные полотна радуг.
Продрогшая старая груша принимала солнечные ванны без меня, после завтрака надо было собирать вещи. Как же долго, чего мама возится так долго?! Я помогал запихивать так и не пригодившиеся мамины платья в чемодан, который выталкивал из пасти назад разноцветные комки, словно издеваясь надо мной. Часы шли по расписанию, через сотню минут и тысячу секунд откроются шлагбаумы-стрелки, и поезд умчит меня за темные леса, за широкие поля… умчит взрослеть – навсегда, безвозвратно. Надо успеть!
– Ты чего такой грустный? Иди-ка обедать, – подозрительно взглянув на меня, позвала баба Света.
– Как будто от борща станет веселее, – ответил я. – Можно я немножечко погуляю.
– Конечно нет! – сказала бабушка.
– Конечно да! – сказала мама.
– Ну хорошо, хорошо. Посиди в тенечке, – насупилась бабушка.
– Побегай на солнышке, – подмигнула мама.
Я был послушным сыном. И уже через минуту несся к бухте.
Я поранил ногу об острые камни и принес жертву первой любви. Я так спешил… и не успел.
Русалка приняла предложение горного козла и стала кооперативной, а лоскуты ее платья превратились в десятки серебряных рыбок. Гадкий утенок вместе с ветром встал на крыло, но зажатый между волнами и скалами лопнул, и теперь висел на острой, как гвоздь, вершине.
Сказать «до свидания» пришла лишь морская грусть. Посидела рядом со мной на песке, потрогала ладонями воду, крикнула «кыш» надоедливым чайкам. И потихоньку ушла.
Море смыло «Я +Ты», написанные нами. Море всегда забирает то, что было еще вчера. Но лишь для того, чтобы прибить к другому берегу завтра. Или через много лет.
P.S. Козлом я не стал. Сенкевичем тоже. Но облысел.
Биография - читать далее
Окончил училище им. В. Серова. По профессии художник-оформитель.
(Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха)
В недавнем прошлом арт-директор петербургской газеты «Метро», в настоящем арт-директор собственного проекта «Лайка».
Во время работы в газете писал колонки и материалы различного содержания. В те же годы начал писать небольшие рассказы. Учился в литературной мастерской А. Аствацатурова и Д. Орехова.
Рассказ «Бомбист» вошел в шорт-лист петербургского конкурса "Детектив Достоевский".
Рассказ «Трудно быть Журавлевым» публиковался в сборнике «Первые».
(Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха)
В недавнем прошлом арт-директор петербургской газеты «Метро», в настоящем арт-директор собственного проекта «Лайка».
Во время работы в газете писал колонки и материалы различного содержания. В те же годы начал писать небольшие рассказы. Учился в литературной мастерской А. Аствацатурова и Д. Орехова.
Рассказ «Бомбист» вошел в шорт-лист петербургского конкурса "Детектив Достоевский".
Рассказ «Трудно быть Журавлевым» публиковался в сборнике «Первые».