Поэта надо судить по законам его творчества.
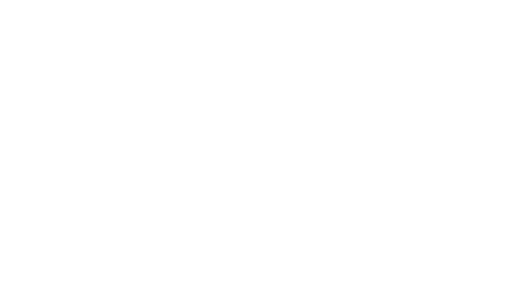
Галина Борисовна Таланова
Российский поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии «Болдинская осень» (2012).
Лауреат литературной премии имени А.М.Горького (2016).
Российский поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии «Болдинская осень» (2012).
Лауреат литературной премии имени А.М.Горького (2016).
Рад приветствовать вас, Галина Борисовна!
Выражаю вам благодарность за то, что нашли время для нашего журнала.
Следуя традиции, я бы хотел, чтобы в начале интервью вы рассказали нашим читателям о вашем детстве.
Провокационный вопрос… О детстве и близких всегда хочется рассказать много… У меня было вполне счастливое детство. Я была любима, оберегаема от ветров жизни, и мои близкие старались намешать в ребёнке коктейль «порядочности, интеллигентности, добра, скромности, культуры».
Я родилась в семье кораблестроителей. Отец и бабушка преподавали на «кораблестроительном факультете», деканом которого сначала был мой дедушка Полканов Леонид Дмитриевич (потом на основе кораблестроительного факультета им был создан физико-технический факультет), мама этот же факультет заканчивала, где и познакомилась с папой. Папа одно время возглавлял кафедру «Строительной механики корабля».
Моя мама, Эльвира Бочкова, только по образованию была кораблестроителем, а по призванию она была поэтом. Около десяти лет она проработала на предприятии оборонного комплекса и конструктором в ЦКБ «Волгобалтсудопроект», но после моего рождения много болела, получила инвалидность – и стала писать стихи. Первая её книга «Движения души» вышла в издательстве «Современник», тогда ещё печатающем стихи большими тиражами и выплачивающем автору гонорар. После этого у неё были выпущены ещё 11 книг стихов. Мама всегда была рядом, но сидела с неизменной тетрадкой в кресле и нанизывала бисер букв на линейки, складывая его в неповторимый узор строк и рифм, парящая в облаках и недосягаемая на своей высоте. Стихи, набранные ей на машинке, я читала и распевала вслух, гуляя на даче по берегу реки. «Листики кружатся, тихо шелестят, на траву они ложатся, опустел наш сад…» — это были мои первые строчки, написанные во втором классе по заданию учительницы музыки. Потом робко постучались ко мне ещё несколько стихов. Постояли, будто ангелы, за спиной – и улетели, плотно затворив за собой дверь. С детства я видела и «изнанку» писательского труда: невозможность пробиться в печать, травлю писателей своими собратьями по перу и администрацией, боль и горечь непризнания, шишки от попыток пробить «железобетонные стены».
У нас на даче гостили не один раз такие поэты, как Федор Сухов, Мария Сухорукова, Виктор Кумакшев.
Я была папина дочка, он был фронтовик, выпускник 1941 года, ушедший со школьной скамьи на фронт, но он никогда не вспоминал о войне и не рассказывал о ней.
Почему-то вспомнила себя маленькой девочкой у отца на руках и так явственно почувствовала колючесть его свитера домашней вязки, пропитавшегося запахом дешёвого табака. Руки обнимали меня так крепко и надёжно, как никто уже после не обнимал. Я была оторвана от земли и твёрдо знала, что эти руки не уронят меня НИКОГДА. Вспомнила, как однажды сразу после дождя мы пошли с отцом в лес. Было так скользко, что я никак не могла подняться по глинистой горе. Просто съезжала вниз, хотя отец и проделывал для меня ступеньки, вминая размокшую землю своими огромными сапогами. Он шёл впереди, протянув мне назад руку и таща за собой на буксире.
Когда была маленькой, то папа собирал всех моих подруг, и мы шли куда-нибудь гулять: в парк, в музеи, просто по городу ходили, как цыганский табор. А когда жили на даче, он собирал всех моих друзей, и мы жгли до полуночи костры и пекли в них картошку. Это такое было наслаждение: обдираешь, обжигаясь, кожуру, превратившуюся в целый слой угля, — а там открывается запёкшаяся, разварившаяся картофелина, пахнущая горьковатым дымом. Её солишь крупной солью — и объедение! А чёрный хлеб пекли над прожорливыми языками костра. Нанизывали на деревянные прутики ломтики хлеба и коптили. Языки огня облизывали хлеб, как дракон какой-то многоголовый, оставляя на нём свою чёрную слюну. Запёкшийся хлеб тоже был с хрустящей корочкой и тоже вобравший в себя просмолившийся дым и предчувствие романтики. А в небе звёзды светились, и луна была полукругом, как след на журнальном столике от горячего чайника, который папа по рассеянности поставил половиной дна на салфетку, а половиной — прямо на лакированный столик. А папа нам показывал, где живут Большая и Малая Медведицы, похожие на половники, которыми мы на даче черпали воду из эмалированного ведра, стоявшего на солнышке, и обливались в жару.
И ещё папа с нами на рыбалку ходил, насаживал всем по червяку на крючок — и мы сидели и смотрели, когда зелёненькая петелька мормышки дёргаться начнёт, как стрекозье крылышко. А когда крылышко начинало вибрировать, то папа осторожно вытаскивал удилище, снимал щупленького ершишку или маленького окунька и пускал их в садок, плавающий за бортом лодки в речке. А потом он жарил в манке рыбку, которую можно было со всеми хвостами и плавниками есть. О, как она хрустела! И кексы всякие печь любил, и салаты делать.
Папа учил меня плавать по книжке, но я плавала всё равно только, когда папа меня руками поддерживал под живот — и я чувствовала надёжность его рук и ласку воды, которая совсем не утягивала на дно, а, наоборот, выталкивала на поверхность, словно пенопласт какой-то или надувной матрас. И за земляникой мы ходили, и за маслятами. Я не умела искать в густой траве ни ягод, ни грибов. Папа собирал мне букетик земляники, а я потом сидела на пригорке и губами срывала по одной из букетика, растягивая удовольствие. А папа бросал ягоды в кружку или бидончик, после землянику клали в чай или молоко, или даже в творог со сметаной, и те становились сразу такими душистыми и напоминали о полянке, залитой солнечным светом. А грибы папа видел даже самые мелкие средь некошеной травы на буграх — сразу целое семейство жёлтых шляпок маслят, напоминающих желтки яиц деревенской курицы, которые я тоже так любила вылавливать из бульона летом. Он аккуратно срезал грибы под корень перочинным ножиком и складывал в старенькую корзинку с вылезшими из неё прутьями, торчащими, как солома из разорённого гнезда.
Я обожала, когда он меня в гамаке качал. Я лежу, раскинулась. По синеве неба облака плывут, будто белые медведи по морю. А над ней сосны качают своими мохнатыми лапами с расфуфыренными шишками.
Зимой же на лыжах катались, вернее, я на них просто ходила, а папа шагал рядом в ботинках. А когда училась кататься на коньках в маминых «хоккейках», то он стоял с раскрытыми объятиями, чтобы меня поймать на финише. Ещё раньше, когда я совсем маленькая была, папа меня на санках возил: я ехала, как маленькая королевишна в карете, закутанная бабушкиным пуховым платком по самые глаза.
И в шахматы с папой мы играли, и в шашки, и в «пятнадцать», и в «лото», и в мозаику, и в игры всякие, когда кубик кидаешь — и передвигаешься либо назад, либо вперёд. Эти игры я особенно любила и рано поняла, что никогда не получается двигаться только вперёд, всегда рано или поздно отбрасывает назад, как бы ты быстро ни продвигался; надо всегда уметь искать обходные пути, быть гибкой и никогда не переть на стенку. Стенка останется стоять, а вот лоб… И никогда не бывает истинным путь, что кажется самым коротким. А дойдя до цели, очень часто вблизи её не узнаёшь и не понимаешь, зачем было потрачено столько усилий, когда клад — вон он, совсем в другом месте, только надо опять копать окаменевший грунт…
Он даже платья для кукол шил на машинке швейной. А больше всего я любила сидеть у него на животе, когда он лежал на диване, согнув ноги, и имитировал спинку кресла. А потом раз! — я весело падала на жёсткий матрас. Это наша любимая игра была. Только что надёжно и мягко сидела, ощущая всем телом живое тепло, и вдруг летишь в тартарары.
И фильмы всякие мы вместе смотрели, и читал он мне вслух. Особенно когда я болела. От гайморита мне нос прогревал синей лампой. Одной рукой держал лампу, а другой придерживал на коленях книгу, которую мне читал. Это было так забавно, когда вся комната становилась в ультрамариновом цвете, и я будто плавала в индиговом океане у экватора, который ласково обнимал и согревал, или в синем море, у которого «жили старик со старухой». Потом лампа гасилась, одеяло крепко и заботливо подтыкалось папой со всех сторон так, что я оказывалась в надёжном коконе, и комната погружалась в глубину ночи, но тепло оставалось.
Покупал и читал вслух книжки про Мери Поппинс, Незнайку, Алису в Стране чудес и Волшебника Изумрудного города. А ещё он мне байки рассказывал всякие, сочинённые им истории. Моими любимыми историями были рассказы про смешного дяденьку Ивана Кузьмича. Был такой у него придуманный герой. Наверное, под их влиянием и было написано мной продолжение «Незнайки» и «глава» сказки, которую я пересказывала подружке на три года младше меня, не признавшись ей в своём авторстве. Девочка слушала, распахивая глаза подснежниками навстречу свету, и, как подснежник, вытягивая шею.
Когда я стала постарше, он постоянно покупал книжки типа «Занимательной математики», и мы решали с ним оттуда задачки.
Я ему всё-всё могла рассказывать, а маме никогда. Я даже, когда во втором классе влюбилась в мальчика по парте, всё ему повествовала: и что чувствую, и как мы дружим. Папа как подружка мне был. Я вообще очень любила с ним вдвоём оставаться, без мамы. Чтобы он кормил, спать укладывал, чтобы уроки вместе с ним делали.
А в парке мы на многих каруселях пробовали кататься, но у меня голова кружилась, поэтому папа меня обычно сажал на «чёртово колесо» — и мы медленно, как на воздушном шаре, подхваченном тёплыми потоками, поднимались вверх, а город всё уменьшался и уменьшался в размерах, словно мы были Гулливерами в стране лилипутов: такими люди все маленькими становились, будто букашки на ладони. А мы парили наверху, над кронами деревьев, почти под облаками, как птицы. А река становилась, как на карте нарисованная. И ещё мы в тир в парке ходили, где я тренировалась попадать в чёрное яблочко. Курок подводишь под цель — и её как бы поддерживаешь, а попадаешь в яблочко.
А как мы фотографии с ним печатали! Запирались в комнате с красной лампой, напоминающей волшебную лампу Аладдина, словно для чудотворного действа какого-то. Больше всего я любила фотобумагу с отпечатком в ванночку с проявителем пускать и смотреть, как медленно начинают возникать, словно дышишь и оттаиваешь губами замёрзшее стекло, знакомые лица. Сначала угадываются только их отдельные детали, а потом смутно уже всё лицо проступает, становясь всё резче и чётче. Не знала, не видела, потом обнаружила детали, потом увидела лицо — и вот уже и не заметила, как любишь… А потом проявленные лица после закрепителя плавали в ванной. Целая ванна фотографий! Целая ванна дорогих и любимых лиц! Я так любила их перебирать и рассматривать! Фотографии нашего детства были чёрно-белые. На них смысл яснее виден, рельефнее всё проступает, цвет не мешает и не отвлекает от сути. Просто ведь вся жизнь она полосатая: полоса чёрная, полоса белая, белый снег и чёрные ветки, и тёмные тени ветвей на снегу... А переход между чёрным и белым всё равно виден по густоте теней и по их длине. В белом все краски собираются, фокусируются, их всегда можно разложить, только уметь это надо делать. А чёрный — никакой не цвет, а всего лишь отсутствие цвета, он неразложим, он поглощает лучи света, а также все остальные цвета вокруг, его нельзя найти ни в каком другом из оттенков, он уникален; это цвет траура, торжества, магии.
В детстве я была толстая. Меня не дразнили в школе, но я всё равно очень хотела похудеть. Отказывалась от эклеров, облитых шоколадной помадкой, тающей сладкой патокой на пальцах так, что потом надо осторожно их облизывать кончиком языка; от пирожных, которые называли «устрица», хотя походили они на устрицу только раскрытыми створками, из которых выглядывал белый воздушный крем, совсем не похожий на склизкое тело моллюска; от корзиночек, в которых росли будто живые грибы с коричневыми песочными шляпками; воздушных «безе», тающих во рту, точно рыхлый пушистый снег, зачерпнутый горячей ладошкой, и булочек «шу», начинённых взбитым сметанным кремом, смешанным со смородиновым вареньем. Я откладывала всегда несколько ложек еды из своей тарелки взрослым — и это превратилось в ритуал, независимо от величины положенной порции.
Я мучила себя гимнастикой не только из-за того, что хотела похудеть, но и потому, что не могла выполнить положенные упражнения на занятиях по физкультуре, нужные для получения золотого аттестата. Папа расстилал мне поролоновый мат — и я кувыркалась, делала стойку «берёзка» и пыталась сесть на шпагат. По-настоящему я похудела, только когда слёг отец — и ему отвели максимум пару лет.
С бабушкой мы проводили всё лето на даче. Она меня научила плавать, хотя сама не умела никогда… Купались, прыгая: «Баба сеяла горох»… Научила она меня и шить. На даче мы шили мне платья и костюмы из двух стареньких маминых: цветастая оборочка по подолу, такие же манжеты и кокетка… Я долго потом, до эпохи капитализма, шила себе наряды из занавесок из бабушкиного сундука. Она же научила печь меня пирожки…
Я любила гулять с ней по парку Кулибина недалеко от её дома. Бабушка всегда покупала мне и себе мороженое. Заговорщицки смотрела на меня и спрашивала:
— Двойную порцию?
Мама никогда не покупала мне двойную порцию мороженого даже в самое жаркое лето, говорила всегда, что заболит горло.
Потом мы с бабушкой сидели в кафе на открытом воздухе, вдыхая запах прелых листьев и отмирающей травы, влажноватый, пахнущий землёй, грибами и тленом… Я болтала ногами, свешивающимися с пластикового стула, и осторожно откусывала круглой металлической ложечкой бочок от розового мягкого шарика, а потом зачерпывала в неё густой вишнёвый сироп, настоянный на жарком июльском полдне.
Бабушка вообще мне позволяла очень много из того, что не разрешала делать мама. Весной в мартовские школьные каникулы мы гуляли в этом же парке по ручьям с талой водой, надев резиновые сапоги. Вода весело огибала мои красные сапожки, тёрлась о ноги, точно домашний кот Дымок. Я складывала из листка в клеточку, вырванного из школьной тетрадки, бумажный кораблик, как научил меня делать папа, и бежала за ним, разбрызгивая талую воду во все стороны и обливая ледяным фонтаном перекрученные колготки с отвисшими «коленками», спускающиеся, как галифе, на непромокаемые сапожки. Я начинала ждать марта сразу после рождественских ёлок — так хотелось бежать за лёгкими, точно засушенный осиновый лист, корабликами по прозрачной весенней воде, ледяное дыхание которой я чувствовала через сапоги с тёплыми носками из верблюжьей шерсти ручной вязки, представляя, что это не ручей с талой водой, а горная река, — и душа чувствовала такую лёгкость, словно её надули, как воздушный шарик.
С дедушкой мы ездили осенью в лес по грибы, а на майские праздники за подснежниками или ландышами; отправлялись купаться на катере, сделанном им из фанеры зимой в подвале, на «ту сторону Волги», где был чистый и бархатный песочек, на котором росли корабельные сосны, и пологий заход в воду.
Мне иногда говорят на встречах: «Сколько можно писать об ушедших близких?» Я думаю, что пока мы живы. Наши близкие уходят только с нами: их голос звучит внутри нас и ведёт по лучу света в высоту, они помогают нам советом. Я иногда явственно слышу эти советы с их неповторимой родной интонацией… И боль потери тоже уйдёт вместе с нами. Писать об этом надо, и я считаю, что такие опусы почти всегда получаются сильные и не могут не трогать любого, у кого есть душа.
Насколько мне известно, вы по образованию биофизик. Должен признаться, я чрезвычайно мало знаю об этой науке. Однако некоторые факты мне все же известны. В их числе, например, «эффект Умова», в котором была установлена зависимость между альбедо астрономического объекта и степенью поляризации отражённого от него света. Что-то читал и про деятельность Михайло Ломоносова. И хотя биографы и журналисты его так никогда не называют, но, если говорить по существу, Ломоносов ко всему прочему был ещё и биофизиком, поскольку именно он на основе теории эфира разработал теорию нервного импульса.
В целом всякая научная деятельность вызывает у меня чувство гордости за весь человеческий род. И восхищение, когда тем или иным открытиям присваивают имена моих соотечественников.
В Википедии написано, что у вас более 50 научных работ, в том числе научных докладов на международных симпозиумах и конгрессах в Копенгагене, Париже, Глазго, Вашингтоне, Сан-Антонио, Вене, Милане, Франкфурте-на-Майне, Венеции, Барселоне, Берлине.
Если можно, расскажите о ваших достижениях, а может быть, и открытиях в биофизике?
Ну какие открытия… Наука сейчас коллективная… Ты просто колёсико или винтик в большом механизме.
Первые мои работы были по исследованию влияния электромагнитных полей на биологические организмы. В качестве объекта изучения использовались светящиеся бактерии, биолюминесценция которых реагировала на электромагнитные поля, и ее можно было регистрировать и записывать приборами. По электромагнитным полям писались и курсовые, и диплом. Потом лаборатория эта была расформирована, и мне пришлось заниматься биотехнологической проблемой ультра- и микрофильтрации частиц, присутствующих в различных биологических жидкостях и препаратах. По этой проблеме я и защищала кандидатскую диссертацию. Когда началась перестройка, то и эта лаборатория развалилась по причине отсутствия финансирования. И меня перевели в ООО «НПО «Диагностические системы», где я и работаю по сей день. Мы занимаемся разработкой тест-систем для диагностики различных заболеваний: гепатитов, ВИЧ, сифилиса, коронавируса, инфекций, передающихся половым путем, онкомаркёров и гормонов. Предприятие не только разрабатывает диагностические наборы, но и выпускает их. Полтора десятка лет я возглавляла отдел, выпускающий тест-системы для определения гепатита С, заболевания, которое называют «ласковым убийцей».
Выражаю вам благодарность за то, что нашли время для нашего журнала.
Следуя традиции, я бы хотел, чтобы в начале интервью вы рассказали нашим читателям о вашем детстве.
Провокационный вопрос… О детстве и близких всегда хочется рассказать много… У меня было вполне счастливое детство. Я была любима, оберегаема от ветров жизни, и мои близкие старались намешать в ребёнке коктейль «порядочности, интеллигентности, добра, скромности, культуры».
Я родилась в семье кораблестроителей. Отец и бабушка преподавали на «кораблестроительном факультете», деканом которого сначала был мой дедушка Полканов Леонид Дмитриевич (потом на основе кораблестроительного факультета им был создан физико-технический факультет), мама этот же факультет заканчивала, где и познакомилась с папой. Папа одно время возглавлял кафедру «Строительной механики корабля».
Моя мама, Эльвира Бочкова, только по образованию была кораблестроителем, а по призванию она была поэтом. Около десяти лет она проработала на предприятии оборонного комплекса и конструктором в ЦКБ «Волгобалтсудопроект», но после моего рождения много болела, получила инвалидность – и стала писать стихи. Первая её книга «Движения души» вышла в издательстве «Современник», тогда ещё печатающем стихи большими тиражами и выплачивающем автору гонорар. После этого у неё были выпущены ещё 11 книг стихов. Мама всегда была рядом, но сидела с неизменной тетрадкой в кресле и нанизывала бисер букв на линейки, складывая его в неповторимый узор строк и рифм, парящая в облаках и недосягаемая на своей высоте. Стихи, набранные ей на машинке, я читала и распевала вслух, гуляя на даче по берегу реки. «Листики кружатся, тихо шелестят, на траву они ложатся, опустел наш сад…» — это были мои первые строчки, написанные во втором классе по заданию учительницы музыки. Потом робко постучались ко мне ещё несколько стихов. Постояли, будто ангелы, за спиной – и улетели, плотно затворив за собой дверь. С детства я видела и «изнанку» писательского труда: невозможность пробиться в печать, травлю писателей своими собратьями по перу и администрацией, боль и горечь непризнания, шишки от попыток пробить «железобетонные стены».
У нас на даче гостили не один раз такие поэты, как Федор Сухов, Мария Сухорукова, Виктор Кумакшев.
Я была папина дочка, он был фронтовик, выпускник 1941 года, ушедший со школьной скамьи на фронт, но он никогда не вспоминал о войне и не рассказывал о ней.
Почему-то вспомнила себя маленькой девочкой у отца на руках и так явственно почувствовала колючесть его свитера домашней вязки, пропитавшегося запахом дешёвого табака. Руки обнимали меня так крепко и надёжно, как никто уже после не обнимал. Я была оторвана от земли и твёрдо знала, что эти руки не уронят меня НИКОГДА. Вспомнила, как однажды сразу после дождя мы пошли с отцом в лес. Было так скользко, что я никак не могла подняться по глинистой горе. Просто съезжала вниз, хотя отец и проделывал для меня ступеньки, вминая размокшую землю своими огромными сапогами. Он шёл впереди, протянув мне назад руку и таща за собой на буксире.
Когда была маленькой, то папа собирал всех моих подруг, и мы шли куда-нибудь гулять: в парк, в музеи, просто по городу ходили, как цыганский табор. А когда жили на даче, он собирал всех моих друзей, и мы жгли до полуночи костры и пекли в них картошку. Это такое было наслаждение: обдираешь, обжигаясь, кожуру, превратившуюся в целый слой угля, — а там открывается запёкшаяся, разварившаяся картофелина, пахнущая горьковатым дымом. Её солишь крупной солью — и объедение! А чёрный хлеб пекли над прожорливыми языками костра. Нанизывали на деревянные прутики ломтики хлеба и коптили. Языки огня облизывали хлеб, как дракон какой-то многоголовый, оставляя на нём свою чёрную слюну. Запёкшийся хлеб тоже был с хрустящей корочкой и тоже вобравший в себя просмолившийся дым и предчувствие романтики. А в небе звёзды светились, и луна была полукругом, как след на журнальном столике от горячего чайника, который папа по рассеянности поставил половиной дна на салфетку, а половиной — прямо на лакированный столик. А папа нам показывал, где живут Большая и Малая Медведицы, похожие на половники, которыми мы на даче черпали воду из эмалированного ведра, стоявшего на солнышке, и обливались в жару.
И ещё папа с нами на рыбалку ходил, насаживал всем по червяку на крючок — и мы сидели и смотрели, когда зелёненькая петелька мормышки дёргаться начнёт, как стрекозье крылышко. А когда крылышко начинало вибрировать, то папа осторожно вытаскивал удилище, снимал щупленького ершишку или маленького окунька и пускал их в садок, плавающий за бортом лодки в речке. А потом он жарил в манке рыбку, которую можно было со всеми хвостами и плавниками есть. О, как она хрустела! И кексы всякие печь любил, и салаты делать.
Папа учил меня плавать по книжке, но я плавала всё равно только, когда папа меня руками поддерживал под живот — и я чувствовала надёжность его рук и ласку воды, которая совсем не утягивала на дно, а, наоборот, выталкивала на поверхность, словно пенопласт какой-то или надувной матрас. И за земляникой мы ходили, и за маслятами. Я не умела искать в густой траве ни ягод, ни грибов. Папа собирал мне букетик земляники, а я потом сидела на пригорке и губами срывала по одной из букетика, растягивая удовольствие. А папа бросал ягоды в кружку или бидончик, после землянику клали в чай или молоко, или даже в творог со сметаной, и те становились сразу такими душистыми и напоминали о полянке, залитой солнечным светом. А грибы папа видел даже самые мелкие средь некошеной травы на буграх — сразу целое семейство жёлтых шляпок маслят, напоминающих желтки яиц деревенской курицы, которые я тоже так любила вылавливать из бульона летом. Он аккуратно срезал грибы под корень перочинным ножиком и складывал в старенькую корзинку с вылезшими из неё прутьями, торчащими, как солома из разорённого гнезда.
Я обожала, когда он меня в гамаке качал. Я лежу, раскинулась. По синеве неба облака плывут, будто белые медведи по морю. А над ней сосны качают своими мохнатыми лапами с расфуфыренными шишками.
Зимой же на лыжах катались, вернее, я на них просто ходила, а папа шагал рядом в ботинках. А когда училась кататься на коньках в маминых «хоккейках», то он стоял с раскрытыми объятиями, чтобы меня поймать на финише. Ещё раньше, когда я совсем маленькая была, папа меня на санках возил: я ехала, как маленькая королевишна в карете, закутанная бабушкиным пуховым платком по самые глаза.
И в шахматы с папой мы играли, и в шашки, и в «пятнадцать», и в «лото», и в мозаику, и в игры всякие, когда кубик кидаешь — и передвигаешься либо назад, либо вперёд. Эти игры я особенно любила и рано поняла, что никогда не получается двигаться только вперёд, всегда рано или поздно отбрасывает назад, как бы ты быстро ни продвигался; надо всегда уметь искать обходные пути, быть гибкой и никогда не переть на стенку. Стенка останется стоять, а вот лоб… И никогда не бывает истинным путь, что кажется самым коротким. А дойдя до цели, очень часто вблизи её не узнаёшь и не понимаешь, зачем было потрачено столько усилий, когда клад — вон он, совсем в другом месте, только надо опять копать окаменевший грунт…
Он даже платья для кукол шил на машинке швейной. А больше всего я любила сидеть у него на животе, когда он лежал на диване, согнув ноги, и имитировал спинку кресла. А потом раз! — я весело падала на жёсткий матрас. Это наша любимая игра была. Только что надёжно и мягко сидела, ощущая всем телом живое тепло, и вдруг летишь в тартарары.
И фильмы всякие мы вместе смотрели, и читал он мне вслух. Особенно когда я болела. От гайморита мне нос прогревал синей лампой. Одной рукой держал лампу, а другой придерживал на коленях книгу, которую мне читал. Это было так забавно, когда вся комната становилась в ультрамариновом цвете, и я будто плавала в индиговом океане у экватора, который ласково обнимал и согревал, или в синем море, у которого «жили старик со старухой». Потом лампа гасилась, одеяло крепко и заботливо подтыкалось папой со всех сторон так, что я оказывалась в надёжном коконе, и комната погружалась в глубину ночи, но тепло оставалось.
Покупал и читал вслух книжки про Мери Поппинс, Незнайку, Алису в Стране чудес и Волшебника Изумрудного города. А ещё он мне байки рассказывал всякие, сочинённые им истории. Моими любимыми историями были рассказы про смешного дяденьку Ивана Кузьмича. Был такой у него придуманный герой. Наверное, под их влиянием и было написано мной продолжение «Незнайки» и «глава» сказки, которую я пересказывала подружке на три года младше меня, не признавшись ей в своём авторстве. Девочка слушала, распахивая глаза подснежниками навстречу свету, и, как подснежник, вытягивая шею.
Когда я стала постарше, он постоянно покупал книжки типа «Занимательной математики», и мы решали с ним оттуда задачки.
Я ему всё-всё могла рассказывать, а маме никогда. Я даже, когда во втором классе влюбилась в мальчика по парте, всё ему повествовала: и что чувствую, и как мы дружим. Папа как подружка мне был. Я вообще очень любила с ним вдвоём оставаться, без мамы. Чтобы он кормил, спать укладывал, чтобы уроки вместе с ним делали.
А в парке мы на многих каруселях пробовали кататься, но у меня голова кружилась, поэтому папа меня обычно сажал на «чёртово колесо» — и мы медленно, как на воздушном шаре, подхваченном тёплыми потоками, поднимались вверх, а город всё уменьшался и уменьшался в размерах, словно мы были Гулливерами в стране лилипутов: такими люди все маленькими становились, будто букашки на ладони. А мы парили наверху, над кронами деревьев, почти под облаками, как птицы. А река становилась, как на карте нарисованная. И ещё мы в тир в парке ходили, где я тренировалась попадать в чёрное яблочко. Курок подводишь под цель — и её как бы поддерживаешь, а попадаешь в яблочко.
А как мы фотографии с ним печатали! Запирались в комнате с красной лампой, напоминающей волшебную лампу Аладдина, словно для чудотворного действа какого-то. Больше всего я любила фотобумагу с отпечатком в ванночку с проявителем пускать и смотреть, как медленно начинают возникать, словно дышишь и оттаиваешь губами замёрзшее стекло, знакомые лица. Сначала угадываются только их отдельные детали, а потом смутно уже всё лицо проступает, становясь всё резче и чётче. Не знала, не видела, потом обнаружила детали, потом увидела лицо — и вот уже и не заметила, как любишь… А потом проявленные лица после закрепителя плавали в ванной. Целая ванна фотографий! Целая ванна дорогих и любимых лиц! Я так любила их перебирать и рассматривать! Фотографии нашего детства были чёрно-белые. На них смысл яснее виден, рельефнее всё проступает, цвет не мешает и не отвлекает от сути. Просто ведь вся жизнь она полосатая: полоса чёрная, полоса белая, белый снег и чёрные ветки, и тёмные тени ветвей на снегу... А переход между чёрным и белым всё равно виден по густоте теней и по их длине. В белом все краски собираются, фокусируются, их всегда можно разложить, только уметь это надо делать. А чёрный — никакой не цвет, а всего лишь отсутствие цвета, он неразложим, он поглощает лучи света, а также все остальные цвета вокруг, его нельзя найти ни в каком другом из оттенков, он уникален; это цвет траура, торжества, магии.
В детстве я была толстая. Меня не дразнили в школе, но я всё равно очень хотела похудеть. Отказывалась от эклеров, облитых шоколадной помадкой, тающей сладкой патокой на пальцах так, что потом надо осторожно их облизывать кончиком языка; от пирожных, которые называли «устрица», хотя походили они на устрицу только раскрытыми створками, из которых выглядывал белый воздушный крем, совсем не похожий на склизкое тело моллюска; от корзиночек, в которых росли будто живые грибы с коричневыми песочными шляпками; воздушных «безе», тающих во рту, точно рыхлый пушистый снег, зачерпнутый горячей ладошкой, и булочек «шу», начинённых взбитым сметанным кремом, смешанным со смородиновым вареньем. Я откладывала всегда несколько ложек еды из своей тарелки взрослым — и это превратилось в ритуал, независимо от величины положенной порции.
Я мучила себя гимнастикой не только из-за того, что хотела похудеть, но и потому, что не могла выполнить положенные упражнения на занятиях по физкультуре, нужные для получения золотого аттестата. Папа расстилал мне поролоновый мат — и я кувыркалась, делала стойку «берёзка» и пыталась сесть на шпагат. По-настоящему я похудела, только когда слёг отец — и ему отвели максимум пару лет.
С бабушкой мы проводили всё лето на даче. Она меня научила плавать, хотя сама не умела никогда… Купались, прыгая: «Баба сеяла горох»… Научила она меня и шить. На даче мы шили мне платья и костюмы из двух стареньких маминых: цветастая оборочка по подолу, такие же манжеты и кокетка… Я долго потом, до эпохи капитализма, шила себе наряды из занавесок из бабушкиного сундука. Она же научила печь меня пирожки…
Я любила гулять с ней по парку Кулибина недалеко от её дома. Бабушка всегда покупала мне и себе мороженое. Заговорщицки смотрела на меня и спрашивала:
— Двойную порцию?
Мама никогда не покупала мне двойную порцию мороженого даже в самое жаркое лето, говорила всегда, что заболит горло.
Потом мы с бабушкой сидели в кафе на открытом воздухе, вдыхая запах прелых листьев и отмирающей травы, влажноватый, пахнущий землёй, грибами и тленом… Я болтала ногами, свешивающимися с пластикового стула, и осторожно откусывала круглой металлической ложечкой бочок от розового мягкого шарика, а потом зачерпывала в неё густой вишнёвый сироп, настоянный на жарком июльском полдне.
Бабушка вообще мне позволяла очень много из того, что не разрешала делать мама. Весной в мартовские школьные каникулы мы гуляли в этом же парке по ручьям с талой водой, надев резиновые сапоги. Вода весело огибала мои красные сапожки, тёрлась о ноги, точно домашний кот Дымок. Я складывала из листка в клеточку, вырванного из школьной тетрадки, бумажный кораблик, как научил меня делать папа, и бежала за ним, разбрызгивая талую воду во все стороны и обливая ледяным фонтаном перекрученные колготки с отвисшими «коленками», спускающиеся, как галифе, на непромокаемые сапожки. Я начинала ждать марта сразу после рождественских ёлок — так хотелось бежать за лёгкими, точно засушенный осиновый лист, корабликами по прозрачной весенней воде, ледяное дыхание которой я чувствовала через сапоги с тёплыми носками из верблюжьей шерсти ручной вязки, представляя, что это не ручей с талой водой, а горная река, — и душа чувствовала такую лёгкость, словно её надули, как воздушный шарик.
С дедушкой мы ездили осенью в лес по грибы, а на майские праздники за подснежниками или ландышами; отправлялись купаться на катере, сделанном им из фанеры зимой в подвале, на «ту сторону Волги», где был чистый и бархатный песочек, на котором росли корабельные сосны, и пологий заход в воду.
Мне иногда говорят на встречах: «Сколько можно писать об ушедших близких?» Я думаю, что пока мы живы. Наши близкие уходят только с нами: их голос звучит внутри нас и ведёт по лучу света в высоту, они помогают нам советом. Я иногда явственно слышу эти советы с их неповторимой родной интонацией… И боль потери тоже уйдёт вместе с нами. Писать об этом надо, и я считаю, что такие опусы почти всегда получаются сильные и не могут не трогать любого, у кого есть душа.
Насколько мне известно, вы по образованию биофизик. Должен признаться, я чрезвычайно мало знаю об этой науке. Однако некоторые факты мне все же известны. В их числе, например, «эффект Умова», в котором была установлена зависимость между альбедо астрономического объекта и степенью поляризации отражённого от него света. Что-то читал и про деятельность Михайло Ломоносова. И хотя биографы и журналисты его так никогда не называют, но, если говорить по существу, Ломоносов ко всему прочему был ещё и биофизиком, поскольку именно он на основе теории эфира разработал теорию нервного импульса.
В целом всякая научная деятельность вызывает у меня чувство гордости за весь человеческий род. И восхищение, когда тем или иным открытиям присваивают имена моих соотечественников.
В Википедии написано, что у вас более 50 научных работ, в том числе научных докладов на международных симпозиумах и конгрессах в Копенгагене, Париже, Глазго, Вашингтоне, Сан-Антонио, Вене, Милане, Франкфурте-на-Майне, Венеции, Барселоне, Берлине.
Если можно, расскажите о ваших достижениях, а может быть, и открытиях в биофизике?
Ну какие открытия… Наука сейчас коллективная… Ты просто колёсико или винтик в большом механизме.
Первые мои работы были по исследованию влияния электромагнитных полей на биологические организмы. В качестве объекта изучения использовались светящиеся бактерии, биолюминесценция которых реагировала на электромагнитные поля, и ее можно было регистрировать и записывать приборами. По электромагнитным полям писались и курсовые, и диплом. Потом лаборатория эта была расформирована, и мне пришлось заниматься биотехнологической проблемой ультра- и микрофильтрации частиц, присутствующих в различных биологических жидкостях и препаратах. По этой проблеме я и защищала кандидатскую диссертацию. Когда началась перестройка, то и эта лаборатория развалилась по причине отсутствия финансирования. И меня перевели в ООО «НПО «Диагностические системы», где я и работаю по сей день. Мы занимаемся разработкой тест-систем для диагностики различных заболеваний: гепатитов, ВИЧ, сифилиса, коронавируса, инфекций, передающихся половым путем, онкомаркёров и гормонов. Предприятие не только разрабатывает диагностические наборы, но и выпускает их. Полтора десятка лет я возглавляла отдел, выпускающий тест-системы для определения гепатита С, заболевания, которое называют «ласковым убийцей».
Продолжая эту тему. Ни для кого не секрет, что в 90-е годы вся научная деятельность, ну или почти вся, была или разрушена, или парализована. И немало перспективных людей от науки из-за безденежья уходили в торговлю, в политику, в шоу-бизнес, да куда угодно, лишь бы платили. Скажите, не возникало ли у вас желания в то смутное время заняться чем-то более интересным с коммерческой точки зрения?
Нет, не возникало… Мне нравилась моя работа, мне было интересно работать, и я получала от своей работы удовольствие. И я была воспитана в интеллигентской семье, где торговля ассоциировалась с чем-то постыдным, вроде спекуляции и проституции. Но я до сих пор не понимаю, как люди, защитившие по две диссертации, могут иметь зарплату ниже, чем уборщица. По-моему, это своего рода внутренний геноцид нации, который продолжается и по сей день… Хотя теперь иногда меня посещает сожаление, что меня воспитали именно так, когда материальное никогда не стояло на первом месте: нужно было в первую очередь духовное… Наверное, тогда бы я жила чуть лучше, если бы цели ставились ДРУГИЕ…
В СССР биофизика развивалась бурными темпами. И в научной среде многих стран хорошо знали таких людей, как Николай Тимофеев-Ресовский, Михаил Волькенштейн, Иосиф Гительзон и других. Но даже тогда отставание от США, Германии и Чехословакии было весьма существенным.
А как сегодня обстоят дела с развитием биофизики в России? И есть ли хоть какая-то надежда на то, что нам удастся в ближайшем будущем сократить отставание от так называемого «цивилизованного мира»?
Сложно давать прогнозы… К сожалению, в России дело с биологией обстоит ещё хуже, чем с другими точными науками. Причиной этого отчасти является исторический фактор – истребление советских генетиков-биологов мирового уровня в 30-е годы прошлого столетия, лысенковщина. Многие тогда были убиты, многие сосланы в лагеря. В перестроечное время начался просто отъезд учёных, потому что на Западе и в США больше платили и была лучше материальная база для исследований. Многие наши научные работники были выдавлены в коммерцию, так как надо было как-то выживать и кормить семью. В последнее время научные исследования сильно осложняются тем, что приходится заменять многие импортные реактивы, а это иногда заново менять всю разработку; невозможностью закупать оборудование, что было доступно перед СВО. Из-за санкций российские учёные также не могут получить доступ к результатам научных исследований, проведённых за рубежом; пользоваться многими научными базами или «чужим» искусственным интеллектом без VPN. Им приходится искать обходные пути, чтобы оставаться в курсе международных дискуссий. C другой стороны, санкции побуждают скорее переходить на отечественные разработки, быстрее проходит их регистрация.
Что ж! Пришло время поговорить о литературе. Вы, без преувеличения, великолепная лирическая поэтесса.
И если я не ошибаюсь, в вашей авторской коллекции уже девять книг стихов. Это немало. Вы также неоднократно были отмечены разными наградами и премиями. В связи с этим у меня к вам следующий вопрос.
Есть мнение, что настоящая поэзия — это, прежде всего, талантливо поданная искренность. Другие считают, что «истинная поэзия — это магия»... А есть и такие, кто заходит ещё дальше, говоря о том, что поэзия — это вообще «стриптиз».
А что для вас есть настоящая поэзия?
Настоящая поэзия – это всегда боль, ожог, недосказанность, удивление, отточенные неточности, музыка, волшебство, двойное дно, тайна. Поэзия – это всегда таинственные дебри леса, куда могут проникнуть лишь избранные, идущие, как лунатик с остекленевшими глазами, на зачаровавший их лунный свет. Настоящая поэзия всегда оставляет возможность для тонкого и чуткого читателя додумать и довыстрадать; проявить теплом своего сердца то, что написано «молоком по письму»… Поэт отчаянно пытается поделиться с другими сокровищами своего сердца, но говорит всегда на своём «птичьем языке», слышать который дано не каждому, поэтому он одиноко бредёт по жизни, хотя и рядом с другими… На его волну надо настроиться, чтобы услышать, почувствовать, завибрировать на тоненькой ноте и быть в резонансе. Настоящая поэзия «небывшее» и несбывшееся делает бывшим. Это воскрешение действительности, которой не было, галлюцинации воспоминаний, когда и сам не знаешь, какой причудливый образ сложится из их разноцветных осколков, как в калейдоскопе. Поэт вытаскивает мгновения из огня, в котором сгорают наши дни, отбрасывая причудливые тени, словно горящая бумага, и извлекает из теней свет… Погружение в глубину настоящего стиха – это как погружение на дно океана в батискафе, когда в иллюминаторе колышутся смутные водоросли строчек, родившихся из минутной эмоции, да проплывают где-то почти на дне причудливые рыбы предчувствий, и не знаешь, когда вынырнешь на поверхность… А остальное нужно дочувствовать самому читателю, нарастить, выстроить свои песочные замки из музыки чужих строф.
Хороший ответ, который напомнил мне о высказывании Пушкина: «Поэзия гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики». Да, согласен. Настоящая поэзия — это особая сфера, доступ в которую открыт не для всех. Однако, стоит признать, что обыватель не так уж и далёк от поэзии «повседневной». И в наше время поэтические сайты и паблики всё же пользуются спросом. Хотя правда и то, что массовый читатель сегодня в большей степени, чем когда-либо, выбирает именно тех авторов, которые используют в своем творчестве простой, примитивный и часто дворовый сленг. Утончённость и изящество теперь не в моде, как, впрочем, и глубокомыслие...
Должен сказать, что когда я готовился к нашему разговору и читал интервью с вашим участием, я заметил, что почти все журналисты задавали вам один и тот же вопрос: как можно сочетать профессию биофизика и страсть к поэзии? И мне это показалось достаточно странным и даже удивило меня, поскольку лично я никакого противоречия в этом не нахожу. Ведь умение писать стихи или прозу — это дар Божий. Он либо есть, либо нет! Этот дар был и у математика Омара Хайяма, и у практикующего хирурга Артура Конан Дойля...
А потому я решил, что будет разумнее спросить вас о другом. Скажите, как вы сами считаете, в чём именно вам удалось добиться наибольшего успеха, в области литературы или в научной деятельности?
— В литературе, конечно… Но литературой даже на существование заработать невозможно. Хотя «узок круг своих», часто сталкиваешься с тем, что твои опусы издатели даже не открывают, а открыв и прочитав несколько страниц по диагонали, бросают в «корзину», так как ориентируются на массового читателя, как Вы правильно заметили, зачастую предпочитающего «поп-корм», позволяющий ему расслабляться от суеты жизни и с удовольствием убивать время, особенно это касается прозы.
Кстати о прозе... На данный момент за вашим авторством уже опубликованы несколько романов. Это замечательно! Только в отличие от поэзии, написание романа уже не является легкой прогулкой, а скорее тяжелый труд, занимающий много времени. В связи с этим у меня вопрос. А что вдохновило вас на работу в этом литературном жанре?
Наверное, у многих поэтов так бывает: наступает момент, когда в стихи не вмещается всё то, что хочешь сказать. Проза такую возможность даёт. В прозе всегда присутствует сюжет… В стихах у меня никогда, хотя поэтические книги я складываю тоже, чтобы выстроилась сюжетная линия жизни души… Вот пришла весна с её необъяснимым томлением по переменам, разбудившая любовь; вот безмятежное лето, когда можно созерцать течение воды и круги на ней от брошенного камушка, сидя у реки; вот осень, кидающая под ноги разноцветные лоскутки погибающих листьев, разлука; вот зима с её узорами на стекле, через которые не видно человека, но которые можно оттаять, если подышать на это кружево, и новогоднее ожидание чуда, которому сбыться не суждено… Пришёл такой момент, когда захотелось сказать то, что не получается в стихах, и у меня. Возможно, что к этому меня подтолкнул научный прогресс и появление компьютера. Первые поэтические книги я набирала на печатной машинке, потом вносила рукописные правки, перепечатывала, иногда не один раз. С прозой я бы такого делать не смогла просто из-за дефицита времени. Печатаю я медленно, одним пальцем… Но поэтическое, образное видение мира и отношений, движения души и сердечные перебои остались у меня и в прозе.
Как вы считаете, какой из ваших романов оказался наиболее сильным произведением с художественной точки зрения и в плане смысловой нагрузки?
И я хочу подчеркнуть, что мне интересно именно ваше мнение, поскольку читатели нередко ошибаются. Вспомнить хотя бы замечательную книгу американского классика Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», которая в первые десятилетия практически не продавалась. Ну а про издателей уже и говорить не приходится, поскольку у этих на уме лишь коммерческая целесообразность.
Сложный вопрос. Наверное, ответить на него — это так же, как выбрать любимого ребёнка. Все мои романы пропущены через сердце, в них вложена моя душа, и все они написаны «кровью», образным языком. Все мои романы объединяет одно: в них истории женщин, которые переживают ситуацию «на грани, на краю», они оставляют ощущение ожога, послевкусия, которое отпускает не сразу, и заставляют задуматься о смысле человеческого существования. Все они о любви, и во всех присутствуют потери близких и смерти. Все они не имеют «хеппиэнда». Почти во всех культурах понятия «любовь» и «смерть» вынесены за рамки рядовых явлений, и ни одна серьезная литература не обходила эти темы стороной. Любовь и смерть нельзя отменить или предугадать, перед ними все равны, это то, что переворачивает нашу отутюженную жизнь с ног на голову, в то же время оставляя пронзительное ощущение, что ты живёшь в полную силу.
Я бы, пожалуй, всё же выбрала роман «Светлячки на ветру», изданный в издательстве «АСТ» в серии «Лучшие романы о любви». Название его — это метафора. Как считали японцы, светлячки — это души наших близких, что ушли туда, откуда не бывает возврата, канули в вечную тьму, но наблюдают за нами, блуждая среди звёзд, и освещают нам дорогу, чтобы мы не заблудились в «дебрях тёмного леса», над которыми сгустились и нависли тяжёлым, накрывшим с головой одеялом, тучи. Светлячки пробуждают спящее сердце для любви. Прилетают светлячками в тёмном саду и вспыхивают в траве, словно упавшие звёзды. И небо кажется опрокинувшимся на землю — и до звёзд становится рукой подать. Можно попытаться задержать этот свет у себя на ладони, с горечью сознавая, что мгновение — и он улетит, растворится в небытии, оставив неясное и будоражащее наше сердце мерцание.
Можно даже попытаться светить фонариком в руке другим: ожидание чуда помогает нам жить и выживать, ухватиться за хвост воздушного змея, уносящегося к облакам, не зная о том, что всегда за ниточку его можно вернуть на землю. И надо жить так, чтобы оставить в сердце людей свет. В этом, в общем-то, и есть смысл литературы. Ведь те фонарики, что обожгли своим холодным завораживающим дыханием в темноте сказочных представлений из нашего детства да ночей любви, с годами разгораются всё сильнее, отбрасывая блики в нынешнюю серую жизнь, покрытую толстым слоем пыли.
Моя героиня, которая узнаёт, что у неё рак груди, — сама в какой-то степени тоже «светлячок», взбирающийся вверх по качающейся травинке, которую кто-то большой и тяжёлый в любой момент может придавить и вмять в землю каблуком. Травинка живуча и упруга, она снова потянется к свету, выпрямляясь, точно сжатая пружина, а букашке опять взбираться по её распрямившемуся стеблю, печалясь о том, что Бог не дал крыльев. Это роман о том, что всё в жизни конечно и каждую легчайшую пушинку времени надо ловить и прижимать к сердцу, нести с дрожью, бережно, боясь, что её унесёт налетевший ветер.
В своё время литературовед и мемуарист Николай Оцуп, который, кстати, в 1933 году впервые употребил словосочетание «Серебряный век», встретился в одном из ресторанов Берлина с поэтом Сергеем Есениным и раскритиковал его третий сборник стихов, сказав, что они вялы, невыразительны и прозаичны. Есенину показалось это оскорбительным. Он вскочил навстречу входившему Кусикову и бросил ему:
— Пойдем, нам пора.
И это, на мой взгляд, весьма яркий пример того, как болезненно может реагировать на критику уже состоявшийся поэт.
А как вы, Галина Борисовна, воспринимаете критику?
Критику близко к сердцу я принимаю очень редко, хотя все поэты ранимы. Выработался иммунитет на укусы… «У поэтов есть такой обычай — в круг сойдясь, оплевывать друг друга», — написал Дмитрий Кедрин почти 90 лет тому назад. Помню из детства, как после одного семинара, где обсуждали мамины стихи, ей вызывали скорую… «А судьи кто?» Зачастую это так… Когда-то Николай Старшинов написал в отзыве о маминой книге, что «поэта надо судить по законам его творчества»… И это правильно! Я давно не завишу в этом от чужих мнений, есть внутренняя свобода, но не внешняя… Однажды на вопрос, не обиделась ли я, когда мне сказали, что книга не понравилась, я ответила: «Не больше, чем на плохую погоду…» И это действительно было так… Человек, который мне это произнёс, не очень-то был вообще искушён в литературе, он даже читал мало… Но зато на меня сильно обиделись за такой ответ… То есть человек заведомо рассчитывал уколоть, причинить боль, получить от этого хоть какую-то компенсацию, что у него дара писателя нет, хочется верить, что не кайф, а сорвалось… От него даже не попробовали отмахнуться, как от осы… Мы же стараемся не махать на осу руками… Обидно же… Хотя, конечно, я прислушиваюсь к замечаниям людей, творчество которых мне созвучно, и благодарна за них… Но всё равно смотрю на это со своей колокольни…
Наше интервью подходит к концу, а потому я бы хотел предложить вашему вниманию вопросы в формате блиц.
Какая ваша главная черта?
Ответственность и одновременно умение воспарять над суетой.
Ваше любимое занятие?
Творчество, чтение, плавание.
Что является вашим главным недостатком?
Застенчивость, не умею открывать ногой любые двери.
Ваша идея о счастье?
Это предчувствие, что всё, о чём мечтала или даже не решалась мечтать, сбывается… Счастье внутри нас, когда мы живём в гармонии с собой и миром, и оно не всегда зависит от внешних обстоятельств… Чем сильнее мы к нему стремимся, тем легче оно ускользает от нас. Счастье как воздух, который мы не замечаем, мы его осознаём, когда оно исчезает. Есть такая буддийская пословица, что счастье как бабочка: чем отчаяннее гонишься за ней, тем быстрее она улетает, но стоит отвлечься, и она прилетит и сядет тебе на плечо.
Лучший поэт всех времён?
Вы спрашиваете про любимых или действительно «кто самый лучший во все времена»? А как вообще можно сравнивать Блока и Хайяма, Цветаеву и Басё, Гёте и Эзопа? Поэтому, думаю, что лучший поэт — Создатель, который дал человеку возможность видеть невидимое и писать так, о чём другие могут только догадываться…
Качество, которое вы больше всего цените в людях?
Порядочность.
Ваш любимый цвет?
Почти все, кроме серого и болотного: и яркие, сочные, и пастельные, нежные.
К чему вы испытываете отвращение?
К желанию причинить любую боль, в том числе и душевную, к издевательствам…
Ваш девиз?
Барахтаться, как та лягушка в молоке…
Если дьявол предложит вам бессмертие в обмен на душу, что вы ему ответите?
Бессмертие без души? Но я же тогда не смогу писать… А тогда зачем мне оно?
Продолжите фразу: «Русский человек — это…»
Русский человек — это загадочная русская душа, широкая душа, улыбающаяся только знакомым... И это духовный человек, воспитанный на культурных ценностях своего народа, умеющего выживать и быть победителем. Недаром в русской культуре есть персонаж Левша, который блоху подкуёт.
Если бы у вас появилась возможность переместиться в прошлое, какой бы это был век?
Как сказал Александр Кушнер: «Времена не выбирают, в них живут и умирают…»
Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
Не думала, что встретимся… Человеческое обличье — это твой последний сюрприз? Прости… Мне порой казалось, что тебя нет, а если есть, то ты где-то внутри нас… Поэтому я пыталась творить добро в меру отпущенных тобой возможностей, не ожидая награды. Зачем ты убирал из моей жизни любимых и то, что было мне дорого, сдувал, как пылинки с ладони? Но теперь я хочу обратно, я столько всего не успела.
У нас с вами получился интересный разговор. Пожелайте что-нибудь нашим читателям.
Не бойтесь выдувать радужные пузыри иллюзий, они спасают от суеты, помогают жить и быть счастливыми! Выискивайте радость даже в днях, затянутых тяжелым ватиновым одеялом туч. Жизнь наша похожа на паутинку, что плетёт Создатель, и когда она оборвётся, мы не знаем… Надо торопиться парить на ветру… И ловить в неё вдохновение. И постараться оставить после себя свет, помогающий жить другим и не заблудиться в густом лесу. Любое творчество — уход от небытия.
Нет, не возникало… Мне нравилась моя работа, мне было интересно работать, и я получала от своей работы удовольствие. И я была воспитана в интеллигентской семье, где торговля ассоциировалась с чем-то постыдным, вроде спекуляции и проституции. Но я до сих пор не понимаю, как люди, защитившие по две диссертации, могут иметь зарплату ниже, чем уборщица. По-моему, это своего рода внутренний геноцид нации, который продолжается и по сей день… Хотя теперь иногда меня посещает сожаление, что меня воспитали именно так, когда материальное никогда не стояло на первом месте: нужно было в первую очередь духовное… Наверное, тогда бы я жила чуть лучше, если бы цели ставились ДРУГИЕ…
В СССР биофизика развивалась бурными темпами. И в научной среде многих стран хорошо знали таких людей, как Николай Тимофеев-Ресовский, Михаил Волькенштейн, Иосиф Гительзон и других. Но даже тогда отставание от США, Германии и Чехословакии было весьма существенным.
А как сегодня обстоят дела с развитием биофизики в России? И есть ли хоть какая-то надежда на то, что нам удастся в ближайшем будущем сократить отставание от так называемого «цивилизованного мира»?
Сложно давать прогнозы… К сожалению, в России дело с биологией обстоит ещё хуже, чем с другими точными науками. Причиной этого отчасти является исторический фактор – истребление советских генетиков-биологов мирового уровня в 30-е годы прошлого столетия, лысенковщина. Многие тогда были убиты, многие сосланы в лагеря. В перестроечное время начался просто отъезд учёных, потому что на Западе и в США больше платили и была лучше материальная база для исследований. Многие наши научные работники были выдавлены в коммерцию, так как надо было как-то выживать и кормить семью. В последнее время научные исследования сильно осложняются тем, что приходится заменять многие импортные реактивы, а это иногда заново менять всю разработку; невозможностью закупать оборудование, что было доступно перед СВО. Из-за санкций российские учёные также не могут получить доступ к результатам научных исследований, проведённых за рубежом; пользоваться многими научными базами или «чужим» искусственным интеллектом без VPN. Им приходится искать обходные пути, чтобы оставаться в курсе международных дискуссий. C другой стороны, санкции побуждают скорее переходить на отечественные разработки, быстрее проходит их регистрация.
Что ж! Пришло время поговорить о литературе. Вы, без преувеличения, великолепная лирическая поэтесса.
И если я не ошибаюсь, в вашей авторской коллекции уже девять книг стихов. Это немало. Вы также неоднократно были отмечены разными наградами и премиями. В связи с этим у меня к вам следующий вопрос.
Есть мнение, что настоящая поэзия — это, прежде всего, талантливо поданная искренность. Другие считают, что «истинная поэзия — это магия»... А есть и такие, кто заходит ещё дальше, говоря о том, что поэзия — это вообще «стриптиз».
А что для вас есть настоящая поэзия?
Настоящая поэзия – это всегда боль, ожог, недосказанность, удивление, отточенные неточности, музыка, волшебство, двойное дно, тайна. Поэзия – это всегда таинственные дебри леса, куда могут проникнуть лишь избранные, идущие, как лунатик с остекленевшими глазами, на зачаровавший их лунный свет. Настоящая поэзия всегда оставляет возможность для тонкого и чуткого читателя додумать и довыстрадать; проявить теплом своего сердца то, что написано «молоком по письму»… Поэт отчаянно пытается поделиться с другими сокровищами своего сердца, но говорит всегда на своём «птичьем языке», слышать который дано не каждому, поэтому он одиноко бредёт по жизни, хотя и рядом с другими… На его волну надо настроиться, чтобы услышать, почувствовать, завибрировать на тоненькой ноте и быть в резонансе. Настоящая поэзия «небывшее» и несбывшееся делает бывшим. Это воскрешение действительности, которой не было, галлюцинации воспоминаний, когда и сам не знаешь, какой причудливый образ сложится из их разноцветных осколков, как в калейдоскопе. Поэт вытаскивает мгновения из огня, в котором сгорают наши дни, отбрасывая причудливые тени, словно горящая бумага, и извлекает из теней свет… Погружение в глубину настоящего стиха – это как погружение на дно океана в батискафе, когда в иллюминаторе колышутся смутные водоросли строчек, родившихся из минутной эмоции, да проплывают где-то почти на дне причудливые рыбы предчувствий, и не знаешь, когда вынырнешь на поверхность… А остальное нужно дочувствовать самому читателю, нарастить, выстроить свои песочные замки из музыки чужих строф.
Хороший ответ, который напомнил мне о высказывании Пушкина: «Поэзия гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики». Да, согласен. Настоящая поэзия — это особая сфера, доступ в которую открыт не для всех. Однако, стоит признать, что обыватель не так уж и далёк от поэзии «повседневной». И в наше время поэтические сайты и паблики всё же пользуются спросом. Хотя правда и то, что массовый читатель сегодня в большей степени, чем когда-либо, выбирает именно тех авторов, которые используют в своем творчестве простой, примитивный и часто дворовый сленг. Утончённость и изящество теперь не в моде, как, впрочем, и глубокомыслие...
Должен сказать, что когда я готовился к нашему разговору и читал интервью с вашим участием, я заметил, что почти все журналисты задавали вам один и тот же вопрос: как можно сочетать профессию биофизика и страсть к поэзии? И мне это показалось достаточно странным и даже удивило меня, поскольку лично я никакого противоречия в этом не нахожу. Ведь умение писать стихи или прозу — это дар Божий. Он либо есть, либо нет! Этот дар был и у математика Омара Хайяма, и у практикующего хирурга Артура Конан Дойля...
А потому я решил, что будет разумнее спросить вас о другом. Скажите, как вы сами считаете, в чём именно вам удалось добиться наибольшего успеха, в области литературы или в научной деятельности?
— В литературе, конечно… Но литературой даже на существование заработать невозможно. Хотя «узок круг своих», часто сталкиваешься с тем, что твои опусы издатели даже не открывают, а открыв и прочитав несколько страниц по диагонали, бросают в «корзину», так как ориентируются на массового читателя, как Вы правильно заметили, зачастую предпочитающего «поп-корм», позволяющий ему расслабляться от суеты жизни и с удовольствием убивать время, особенно это касается прозы.
Кстати о прозе... На данный момент за вашим авторством уже опубликованы несколько романов. Это замечательно! Только в отличие от поэзии, написание романа уже не является легкой прогулкой, а скорее тяжелый труд, занимающий много времени. В связи с этим у меня вопрос. А что вдохновило вас на работу в этом литературном жанре?
Наверное, у многих поэтов так бывает: наступает момент, когда в стихи не вмещается всё то, что хочешь сказать. Проза такую возможность даёт. В прозе всегда присутствует сюжет… В стихах у меня никогда, хотя поэтические книги я складываю тоже, чтобы выстроилась сюжетная линия жизни души… Вот пришла весна с её необъяснимым томлением по переменам, разбудившая любовь; вот безмятежное лето, когда можно созерцать течение воды и круги на ней от брошенного камушка, сидя у реки; вот осень, кидающая под ноги разноцветные лоскутки погибающих листьев, разлука; вот зима с её узорами на стекле, через которые не видно человека, но которые можно оттаять, если подышать на это кружево, и новогоднее ожидание чуда, которому сбыться не суждено… Пришёл такой момент, когда захотелось сказать то, что не получается в стихах, и у меня. Возможно, что к этому меня подтолкнул научный прогресс и появление компьютера. Первые поэтические книги я набирала на печатной машинке, потом вносила рукописные правки, перепечатывала, иногда не один раз. С прозой я бы такого делать не смогла просто из-за дефицита времени. Печатаю я медленно, одним пальцем… Но поэтическое, образное видение мира и отношений, движения души и сердечные перебои остались у меня и в прозе.
Как вы считаете, какой из ваших романов оказался наиболее сильным произведением с художественной точки зрения и в плане смысловой нагрузки?
И я хочу подчеркнуть, что мне интересно именно ваше мнение, поскольку читатели нередко ошибаются. Вспомнить хотя бы замечательную книгу американского классика Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», которая в первые десятилетия практически не продавалась. Ну а про издателей уже и говорить не приходится, поскольку у этих на уме лишь коммерческая целесообразность.
Сложный вопрос. Наверное, ответить на него — это так же, как выбрать любимого ребёнка. Все мои романы пропущены через сердце, в них вложена моя душа, и все они написаны «кровью», образным языком. Все мои романы объединяет одно: в них истории женщин, которые переживают ситуацию «на грани, на краю», они оставляют ощущение ожога, послевкусия, которое отпускает не сразу, и заставляют задуматься о смысле человеческого существования. Все они о любви, и во всех присутствуют потери близких и смерти. Все они не имеют «хеппиэнда». Почти во всех культурах понятия «любовь» и «смерть» вынесены за рамки рядовых явлений, и ни одна серьезная литература не обходила эти темы стороной. Любовь и смерть нельзя отменить или предугадать, перед ними все равны, это то, что переворачивает нашу отутюженную жизнь с ног на голову, в то же время оставляя пронзительное ощущение, что ты живёшь в полную силу.
Я бы, пожалуй, всё же выбрала роман «Светлячки на ветру», изданный в издательстве «АСТ» в серии «Лучшие романы о любви». Название его — это метафора. Как считали японцы, светлячки — это души наших близких, что ушли туда, откуда не бывает возврата, канули в вечную тьму, но наблюдают за нами, блуждая среди звёзд, и освещают нам дорогу, чтобы мы не заблудились в «дебрях тёмного леса», над которыми сгустились и нависли тяжёлым, накрывшим с головой одеялом, тучи. Светлячки пробуждают спящее сердце для любви. Прилетают светлячками в тёмном саду и вспыхивают в траве, словно упавшие звёзды. И небо кажется опрокинувшимся на землю — и до звёзд становится рукой подать. Можно попытаться задержать этот свет у себя на ладони, с горечью сознавая, что мгновение — и он улетит, растворится в небытии, оставив неясное и будоражащее наше сердце мерцание.
Можно даже попытаться светить фонариком в руке другим: ожидание чуда помогает нам жить и выживать, ухватиться за хвост воздушного змея, уносящегося к облакам, не зная о том, что всегда за ниточку его можно вернуть на землю. И надо жить так, чтобы оставить в сердце людей свет. В этом, в общем-то, и есть смысл литературы. Ведь те фонарики, что обожгли своим холодным завораживающим дыханием в темноте сказочных представлений из нашего детства да ночей любви, с годами разгораются всё сильнее, отбрасывая блики в нынешнюю серую жизнь, покрытую толстым слоем пыли.
Моя героиня, которая узнаёт, что у неё рак груди, — сама в какой-то степени тоже «светлячок», взбирающийся вверх по качающейся травинке, которую кто-то большой и тяжёлый в любой момент может придавить и вмять в землю каблуком. Травинка живуча и упруга, она снова потянется к свету, выпрямляясь, точно сжатая пружина, а букашке опять взбираться по её распрямившемуся стеблю, печалясь о том, что Бог не дал крыльев. Это роман о том, что всё в жизни конечно и каждую легчайшую пушинку времени надо ловить и прижимать к сердцу, нести с дрожью, бережно, боясь, что её унесёт налетевший ветер.
В своё время литературовед и мемуарист Николай Оцуп, который, кстати, в 1933 году впервые употребил словосочетание «Серебряный век», встретился в одном из ресторанов Берлина с поэтом Сергеем Есениным и раскритиковал его третий сборник стихов, сказав, что они вялы, невыразительны и прозаичны. Есенину показалось это оскорбительным. Он вскочил навстречу входившему Кусикову и бросил ему:
— Пойдем, нам пора.
И это, на мой взгляд, весьма яркий пример того, как болезненно может реагировать на критику уже состоявшийся поэт.
А как вы, Галина Борисовна, воспринимаете критику?
Критику близко к сердцу я принимаю очень редко, хотя все поэты ранимы. Выработался иммунитет на укусы… «У поэтов есть такой обычай — в круг сойдясь, оплевывать друг друга», — написал Дмитрий Кедрин почти 90 лет тому назад. Помню из детства, как после одного семинара, где обсуждали мамины стихи, ей вызывали скорую… «А судьи кто?» Зачастую это так… Когда-то Николай Старшинов написал в отзыве о маминой книге, что «поэта надо судить по законам его творчества»… И это правильно! Я давно не завишу в этом от чужих мнений, есть внутренняя свобода, но не внешняя… Однажды на вопрос, не обиделась ли я, когда мне сказали, что книга не понравилась, я ответила: «Не больше, чем на плохую погоду…» И это действительно было так… Человек, который мне это произнёс, не очень-то был вообще искушён в литературе, он даже читал мало… Но зато на меня сильно обиделись за такой ответ… То есть человек заведомо рассчитывал уколоть, причинить боль, получить от этого хоть какую-то компенсацию, что у него дара писателя нет, хочется верить, что не кайф, а сорвалось… От него даже не попробовали отмахнуться, как от осы… Мы же стараемся не махать на осу руками… Обидно же… Хотя, конечно, я прислушиваюсь к замечаниям людей, творчество которых мне созвучно, и благодарна за них… Но всё равно смотрю на это со своей колокольни…
Наше интервью подходит к концу, а потому я бы хотел предложить вашему вниманию вопросы в формате блиц.
Какая ваша главная черта?
Ответственность и одновременно умение воспарять над суетой.
Ваше любимое занятие?
Творчество, чтение, плавание.
Что является вашим главным недостатком?
Застенчивость, не умею открывать ногой любые двери.
Ваша идея о счастье?
Это предчувствие, что всё, о чём мечтала или даже не решалась мечтать, сбывается… Счастье внутри нас, когда мы живём в гармонии с собой и миром, и оно не всегда зависит от внешних обстоятельств… Чем сильнее мы к нему стремимся, тем легче оно ускользает от нас. Счастье как воздух, который мы не замечаем, мы его осознаём, когда оно исчезает. Есть такая буддийская пословица, что счастье как бабочка: чем отчаяннее гонишься за ней, тем быстрее она улетает, но стоит отвлечься, и она прилетит и сядет тебе на плечо.
Лучший поэт всех времён?
Вы спрашиваете про любимых или действительно «кто самый лучший во все времена»? А как вообще можно сравнивать Блока и Хайяма, Цветаеву и Басё, Гёте и Эзопа? Поэтому, думаю, что лучший поэт — Создатель, который дал человеку возможность видеть невидимое и писать так, о чём другие могут только догадываться…
Качество, которое вы больше всего цените в людях?
Порядочность.
Ваш любимый цвет?
Почти все, кроме серого и болотного: и яркие, сочные, и пастельные, нежные.
К чему вы испытываете отвращение?
К желанию причинить любую боль, в том числе и душевную, к издевательствам…
Ваш девиз?
Барахтаться, как та лягушка в молоке…
Если дьявол предложит вам бессмертие в обмен на душу, что вы ему ответите?
Бессмертие без души? Но я же тогда не смогу писать… А тогда зачем мне оно?
Продолжите фразу: «Русский человек — это…»
Русский человек — это загадочная русская душа, широкая душа, улыбающаяся только знакомым... И это духовный человек, воспитанный на культурных ценностях своего народа, умеющего выживать и быть победителем. Недаром в русской культуре есть персонаж Левша, который блоху подкуёт.
Если бы у вас появилась возможность переместиться в прошлое, какой бы это был век?
Как сказал Александр Кушнер: «Времена не выбирают, в них живут и умирают…»
Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
Не думала, что встретимся… Человеческое обличье — это твой последний сюрприз? Прости… Мне порой казалось, что тебя нет, а если есть, то ты где-то внутри нас… Поэтому я пыталась творить добро в меру отпущенных тобой возможностей, не ожидая награды. Зачем ты убирал из моей жизни любимых и то, что было мне дорого, сдувал, как пылинки с ладони? Но теперь я хочу обратно, я столько всего не успела.
У нас с вами получился интересный разговор. Пожелайте что-нибудь нашим читателям.
Не бойтесь выдувать радужные пузыри иллюзий, они спасают от суеты, помогают жить и быть счастливыми! Выискивайте радость даже в днях, затянутых тяжелым ватиновым одеялом туч. Жизнь наша похожа на паутинку, что плетёт Создатель, и когда она оборвётся, мы не знаем… Надо торопиться парить на ветру… И ловить в неё вдохновение. И постараться оставить после себя свет, помогающий жить другим и не заблудиться в густом лесу. Любое творчество — уход от небытия.
Автор публикации Борис Эхтин, главный редактор журнала TERANTELLA.
Октябрь/2025
