На сегодняшний день профессии «писатель» не существует.
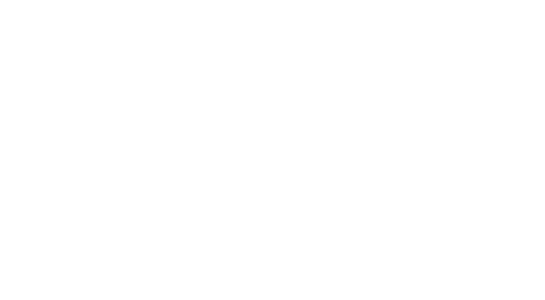
Хомутов Сергей Адольфович
Российский поэт, издатель, член Союза писателей России, действительный член Петровской Академии наук и искусств.
Лауреат национальной премии «Поэт года» (2017).
Российский поэт, издатель, член Союза писателей России, действительный член Петровской Академии наук и искусств.
Лауреат национальной премии «Поэт года» (2017).
Приветствую вас, Сергей Адольфович!
Рад, что вы согласились на это интервью. Хотел бы начать с вопроса о вашем детстве. Расскажите о нём поподробнее.
Мой земной путь начинался на окраинной улице Рыбинска, где в послевоенное время было не до разговоров о поэзии. Жили здесь переселенцы из Мологского края, затопленного водами Рыбинского водохранилища, в домах, тоже перевезенных из тех мест. Многие были хорошо знакомы еще по Мологе, поэтому заходили к соседям в любое время. Это человеческое родство мне запомнилось, а особенно праздничные гулянки, когда за столом собиралось человек по двадцать. Выпивали, пели песни, рассказывали о своей жизни. Разговоры были самые обыденные: о работе, детях, о том, где побывали: один ездил в деревню, другой в столицу, за границу тогда и мысли не было попасть. За столом всех объединяли песни: и народные, и советские.
А я, совсем еще мальчонка, пытался переделывать, а точнее, коверкать песенные тексты, несовершенные в литературном плане, но с интересными сюжетами. Начинали застолье обычно с одной из двух песен. Первая — «Хас-Булат удалой». Я считал, что она народная, но потом узнал, что слова песни написаны А. Аммосовым, музыка О. Агреневой-Славянской. Первый был военным, служил некоторое время под командой К. Данзаса, секунданта А. Пушкина на роковой дуэли. Вторая — русский композитор из музыкальной семьи.
Хас-Булат удалой!
Бедна сакля твоя;
Золотою казной
Я осыплю тебя…
Так обращается к старому горцу князь с просьбой отдать ему молодую жену, которая неверна старику. Кончается всё трагически.
Вторая песня — «Когда б имел златые горы». Она и обозначается в песенниках как народная.
Когда б имел златые горы
И реки полные вина,
Всё отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.
Существуют разные варианты этих песен. Пели также «Тонкую рябину», «Окрасился месяц багрянцем», «Когда я на почте служил ямщиком», «По муромской дорожке», «Вот кто-то с горочки спустился», «Калина красная»... Отец знал много других. Тогда их называли уголовными или блатными, теперь подогнали под шансон. Таких тоже помнится немало, не стану их перечислять. Популярны были песни романтические: «В нашу гавань заходили корабли» (кстати, так называлась телевизионная программа Эдуарда Успенского), «Девушка из маленькой таверны», «Юнга Билл» и другие. Герои этих песен — моряки, пираты, их возлюбленные.
Дедушка мой был из семьи потомственных дворян, прошел обучение в гимназии, и напевал иногда песню на стихи известного поэта XIX века Федора Глинки:
Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина!
И на штыке у часового
Горит полночная луна!
Запомнилась и другая песня, в которой такой первый куплет:
Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно,
Дни и ночи часовые
Стерегут мое окно.
Это песня волжских босяков, записанная Максимом Горьким. Веселые тоже были. Конечно, об авторстве песен я узнал позже, в зрелом возрасте.
Частью каждого дома был чердак, где складывались разные вещи. В магазинах тогда мебели практически не продавали. Библиотек домашних ни у кого не было. Книги брали в городских библиотеках. На чердаке нашем стоял большой, обитый полосками жести сундук, какие теперь показывают в фильмах о прошлом. И в комнатах были такие же сундуки. Складывалось в них белье, в том числе шерстяное, часто пропахшее нафталином, который защищал своим едким, стойким запахом от моли. В поздние годы слово «нафталин» стало нарицательным, обозначающим некую застарелость, иногда оно употребляется и по отношению к старомодному человеку.
А в том чердачном сундуке у нас хранились старые книги. В основном это были учебники: по истории древнего мира и средних веков, астрономии, литературе (хрестоматии) и другим предметам. Из художественных я ничего не запомнил, кроме сказок: русских народных, украинских и самых увлекательных, необычных – нивхских. Читал мне дедушка, годам к шести я сам грамоту освоил. Тогда же прочитанное дедом помнилось. Кроме сказок, первыми произведениями были пушкинские и некрасовские стихи. Особенно мне полюбились «Песнь о вещем Олеге» и «Генерал Топтыгин». Когда в доме собирались гости, меня просили что-то продекламировать, и я охотно это делал. Конечно, не любовь к поэзии проявлялась, а привлекало содержание стихов, но, возможно, в детском сознании откладывалось что-то и проявилось позднее.
К школе я хорошо подготовился. Писали тогда ручками с перьями, авторучек еще не было. В начальных классах всё шло успешно. В этом опять же большая заслуга моего деда, который занимался со мной, следил за оценками. К сожалению, ничего интересного про дальнейшие школьные годы сказать не могу. Школа примерной в городе не считалась. Читал я по-прежнему много, но бессистемно. С пятого класса больше проводил времени в спорте, на природе, что приносило пользу, которую оценил уже в зрелом возрасте.
Стихи неожиданно напомнили о себе в мои двенадцать лет, когда я написал несуразное патриотическое стихотворение. Но оно было единственным, без продолжения. В этот год и детство мое закончилось, слегла в больницу мать, куда и потом попадала часто. Сказались последствия ленинградских блокадных месяцев. Я был предоставлен самому себе, стал самостоятельным, практически взрослым человеком, на котором лежали домашние заботы. Дедушка тоже болел, у него отказали ноги, отцу было не до меня. Бабушка умерла рано, в 50 лет.
Я благодарен тому времени, набрался опыта и множества впечатлений, которые пригодились с возвращением к поэзии уже в 16 лет, когда поступил в Рыбинский полиграфический техникум. Творчество захватило меня по-настоящему. Это было не юношеское, возрастное пристрастие, а осмысленное, с обильным чтением стихов, книг по теории литературы. Первое стихотворение напечатано в городской газете в 17 лет. Здесь я встретил наставников, которые потом вели меня по жизни. Литература тогда считалась серьезной профессией, а не развлечением, как сейчас для многих. Это мне объяснили сразу.
Из вашего ответа становится понятно, что в общем и целом у вас было вполне обычное детство для того времени. Послевоенные трудности заставляли практически всех детей и подростков взрослеть гораздо раньше, чем положено... И это печально.
А вот что касается отношения к поэзии как к серьёзной профессии, то тут я бы хотел вас спросить.
Есть мнение, что настоящие стихи приходят к человеку только под вдохновением. И совершенно непонятно, когда и как это вдохновение к поэту приходит и придёт ли снова. В таком случае как можно сделать серьёзной профессией то, что не укладывается в такие категории, как системность и постоянство?
Я имел в виду то, что для того, чтобы творить, надо еще обрести немало знаний. Обычный юноша не станет читать книги по теории стихосложения и постигать секреты мастерства классиков и современников. Это происходит только с теми, кто «заболел» поэзией и уже получил напутствие от наставников, что в советское время было непросто. Тогда ведь литература была профессией весьма почетной. Не как сейчас. А вдохновение — это уже другое. Но про то время могу сказать, что большинство поэтов писали и для денег. Работа есть работа. И Пушкин писал для денег. И торговался по поводу суммы гонорара. Это разные вещи. Вдохновение рождается из полноценной жизни, когда человек-поэт влюбляется, размышляет о жизни, общается с природой, читает книги. Если сидишь дома на диване, едва ли придет вдохновение.
Навязывалась «рабочая тема». Наши тогдашние классики, например, Евтушенко, премии зарабатывали именно на таких поэмах, как «Братская ГЭС», «Мама и нейтронная бомба» и прочем. На стихах о партии, Ленине. Кстати, у меня такие стихи просто не писались, ни о Ленине, ни о партии не написал ни одного стихотворения. Хотя в партии был 17 лет. Потому что тогда редактором даже мелкой, заводской газеты ты не мог быть, если не вступил в КПСС.
Всё, что вы сказали, я, безусловно, понимаю. И то, что Пушкин получил двенадцать тысяч рублей за «Евгения Онегина», мне также известно... И да. Советская цензура, несмотря на свои сильные стороны, была настолько пропитана коммунистической идеологией, что нередко ломала судьбы весьма талантливых авторов, которые не желали приспосабливаться к советскому режиму...
Вы сказали: «Вдохновение — это уже другое». И я хотел бы уточнить.
Для вас вдохновение — это некое божественное провидение, которое улавливает тонкая душа поэта, погружая его в особое состояние, в котором он и пишет свои лучшие произведения? Или же вы воспринимаете вдохновение скорее как гамму чувств, которые испытывает поэт в результате жизненных переживаний?
Вдохновение — это состояние такого вхождения в творчество, при котором стихи буквально диктуются поэту. Об этом говорили многие. В частности, Ахматова. Писать без вдохновения бессмысленно. Но вдохновение тоже имеет свой уровень. Ведь у Пушкина Болдинская осень была одна, вторая не получилась. Вдохновение — это часть процесса написания, а не повседневное состояние. Но вдохновение ничего не даст, если тебе нечего сказать. Надо сначала себя наполнить, а потом выплескивать в стихи. А если ты пустой и твой багаж душевный и жизненный мал, сказать будет нечего. И рождение образов тем ярче, чем шире диапазон знаний. Без этого стихи будут набором банальностей, лексических и ментальных штампов, перепевом уже сказанного.
Но процесс стихотворчества надо разделить на три части. Первая — озарение, переживание, замысел; вторая — именно работа по вдохновению, воплощение переживания в слова; третье — доработка уже написанного, раньше это называли шлифовкой: замена определений на более ёмкие, выражающие смысл, звучание. Музыка — важнейшая составляющая. Известная формула Заболоцкого «Мысль-образ-музыка». Если строка не звучит, если она корявая и спотыкаешься на каком-то слове, твоя поэтическая энергия не передаётся читателю.
Хотел бы с вами согласиться в том, что одного вдохновения недостаточно! Но, с другой стороны, сколько в истории человечества было поэтов, которые уже в молодом возрасте, не имея ни академических знаний, ни тем более жизненной опытности, выдавали просто шедевры глубокомыслия... И объяснить это явление иначе как божественным провидением лично я никак не могу. Что ж. У нас складывается интересный разговор.
Скажите, Сергей Адольфович, современная поэзия в условиях свободы публикации в интернете скорее прогрессирует или же, наоборот, деградирует?
По поводу первого, что одного вдохновения недостаточно. Конечно. Главное — талант поэта. Без этого просто невозможно. Хотя бы искорка должна быть, которую потом надо раздувать. Талант от природы, от Бога. Конечно, можно научиться рифмовать, даже логически складывать слова в некое подобие стихов, но только подобие. Хотя озарения могут быть и у бездарных людей. А может, они все-таки имеют какие-то задатки, но их не заметили или, еще хуже, убили разные наставники, направив начинающего автора не в ту сторону. Истинно поэтические открытия можно подтвердить на примере детей. Они часто такое выдают, что взрослому на ум не придет, поскольку многое видят впервые и обозначают по-своему, еще не зная взрослого восприятия предмета или явления. И выглядит это свежо, а иногда почти гениально. Для поэта и важно сохранить в себе детское восприятие мира, насколько возможно. Знания могут и во вред пойти. Сейчас это сплошь и рядом. Молодые, чтобы удивить читателя, наполняют тексты чем попало, стремясь выглядеть умней. Но уходит из стихов поэзия.
Если говорить о шедеврах, которые рождены людьми, не имеющими глубокие всесторонние знания, то надо приводить примеры. Ведь если брать 19 век, то часто к 15 годам люди получали столько знаний, сколько сейчас и к 50 не получают. Я имею в виду не крепостных крестьян, а тех, кто воспитывался в дворянских семьях. Ведь и великие поэты в большинстве своем выходили из дворян или тех, кто соприкасался с этим сословием. И знания тоже бывают разные. Я ведь не говорю о книжных знаниях, а о знаниях природы, живого мира, что в той России существовало у детей, живших именно в природе, а не в городских многоэтажках. Но опять же, создавали они свои шедевры из того, чем были наполнены.
Современная поэзия не прогрессирует и не деградирует. Здесь надо сразу определиться, что подразумевать под поэзией, массовую или штучную? «Массовая поэзия», которая сейчас процветает в интернете, кроме вреда, ничего не приносит. Обилие разных фестивалей, мастерских, школ запредельно. И внимание молодым излишне. Оно должно быть, но, как уже сказал, изначально искать надо людей талантливых. Когда я проходил период ученичества, было всё иначе. На областных семинарах опытные наставники сразу выявляли тех, кому в литературе делать нечего, по крайней мере с теми задатками, которые они видели. И поскольку литература была престижной профессией, дающей к тому же и привилегии, и книги, и трудовой стаж, и заработок в виде гонораров от публикаций и выступлений, за количеством писателей не гнались. Прямо говорили, чтобы молодой автор нашел себе другое занятие. Сейчас это невозможно, есть интернет и разные пути в «литературу» или окололитературное пространство, в котором и знания можно обретать, и просто тусоваться с друзьями. Если тогда начинающий автор не сдавался и продолжал писать, работая над собой и над словом, он мог добиться все-таки признания. Плюсы современной литературы — свобода выражения, минусы — отсутствие серьезных стимулов для роста, и материальных, и в смысле престижа профессии, которой сейчас нет. Ну и присутствие Бога в нашей жизни крайне важно. Остальное зависит от упорства и серьезных намерений. Но миллионы поэтов — это многовато, тем более что часто назвать их поэтами можно только условно. Раньше мы не смели себе такие звания присваивать до вступления в Союз писателей СССР. Могли за это осудить. И еще с кем сравнивать, с Пушкиным, Лермонтовым, Блоком, Есениным, Цветаевой или с Демьяном Бедным. Но классики нынешнего времени будут определены только после ухода из жизни, иногда через десятилетия. И определит читатель, о котором мы часто забываем. Он и уходит, о чем постоянно ведутся разговоры. А заставить читать то, что человек не хочет, невозможно.
Еще добавлю к вопросу о современной литературе. Если подразумевать молодую, то привлечение молодых к литературному процессу можно рассматривать с двух сторон. Если смотреть на это как на увлечение, то ничего плохого нет. А если рассматривать как нечто серьезное, то выглядит это вроде «призыва ударников в литературу» в начале 1930-х годов. Поначалу всё выглядело безобидно, но сейчас понимаешь, что отделение молодых от старшего поколения чревато последствиями. Ведь в 50–80-е годы мы варились в одном котле с фронтовиками, людьми с героическими биографиями. Так передавались традиции. Сейчас молодых отделили, наставников настоящих мало. Мастерами на семинарах уже выступают 30-летние, не имеющие опыта. И молодые варятся в своих кастрюльках, причем в разных: у одного мастера, потом у другого, потом у третьего, и хорошо, если эти мастера имеют необходимое образование и достойный жизненный и литературный стаж. Но таких надо еще воспитать, вырастить. Нужно знать литературу от и до. А семинаристы называют из советского времени два-три имени. Да из всей русской поэзии тоже несколько имен, знакомых по школьной программе и сетевым ресурсам.
Благодарю вас за исчерпывающий ответ, в котором вы затронули, как мне кажется, несколько важных моментов. И один из них — это престиж писательской профессии. Сегодня слово «писатель», как вы верно сказали, как будто и ломаного гроша не стоит. И это, конечно, абсолютно несправедливо, учитывая, что писательский труд порою просто погружение в чистилище. Но если мы понимаем это, то возникают вопросы, которые я и хочу задать вам.
Возможно ли, на ваш взгляд, вернуть престиж в писательскую профессию? И каким образом это можно сделать?
Чтобы ответить на вопрос, надо задать несколько вопросов. Как вернуть престиж того, чего нет? На сегодняшний день профессии «писатель» не существует, она только в головах пишущих, а в реестре профессий ее нет. Этот вопрос подымается не первый год, но пока никто его не решил. Это может установить только государство. Сейчас все пишущие по желанию состоят в различных общественных организациях, которые равны в своих правах, как бы ни назывались.
Второй вопрос: среди кого поднять престиж или перед кем? В государстве или в читательской среде? Если в государстве, то надо, как в Советском Союзе, обозначить это хорошим материальным обеспечением, различными льготами и, утвердив профессию, определить миссию служения государству. Но это уже было со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе цензурой, обязанностями, которые свойственны любой профессии. Писатель в СССР был служащим идеологического направления. Но с идеологией пока сложно в конкретности. Ведь назвать идеологией патриотизм, любовь к Родине нельзя. Это и не утверждено именно для писателя, а качества, равные для всех. А идеология — понятие государственное. В союзах писателей и литераторов прописаны обязанности членов общественных организаций и не более того.
Если же говорить о престиже в читательской среде, то его определяет читатель. Хорошее произведение имеет вес, и поэтому его создатель обретает если не престиж, то уважение и спрос на свои книги, публикации. Но число читателей по сравнению с советским временем сильно уменьшилось. Да и книгу надо ещё издать и распространить. А прежде кто-то должен определить ее ценность. Кто сейчас определит? Критика не является авторитетом, государственная оценка существует только в определенных направлениях и не всегда является отражением качества. На первом месте часто стоит тематическая необходимость. Я не говорю, что необходимые тематически произведения некачественные, но не всегда являются таковыми. Они разные. А сам читатель будет потреблять то, что ему нравится, в зависимости от уровня образования, нравственных установок и прочих составляющих, напрямую не связанных с достоинствами литературными.
Следующие моменты, которые упомянул, — издание и распространение книг. Давайте сравним опять же с советским временем. С 19 веком и началом 20-го сравнивать едва ли уместно по причине отсутствия массовой грамотности. Тогда книги и журналы были предметом потребления культурной элиты.
В Советском Союзе, в первую очередь, читать было престижно. Если человек достаточного уровня образования, да и не только, не прочитал новые издания Бондарева, Астафьева, Белова, Распутина, Маканина, Трифонова, он считался ущербным. Поскольку литература широко обсуждалась, воспитывался всесторонне развитый человек. Журналы выписывали практически все семьи, и тиражи их были сотни тысяч экземпляров. Взял, что попало под руку: «Юность» 1986 года — 3 миллиона 310 тысяч экземпляров, «Молодая гвардия» 1982 года — 800 тысяч. Другие тоже были многотиражные. Даже тираж альманаха «Поэзия» 1978 года — 65 тысяч экземпляров. Их выписывали практически все библиотеки СССР, книги тоже рассылались по всей стране. Сейчас тиражи бумажных изданий мизерные, авторы выкладывают свои публикации в интернет, но едва ли читатели их многочисленны. Кто читает интернет-издания, определить трудно. Тиражи книг тоже от 100 штук до нескольких тысяч (проза). Человека читать не заставишь, издатели и определяют тиражи в зависимости от спроса. В советское время достать поэтические книги Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной — шестидесятников — было невозможно, сейчас поэзию трудно продать даже при тираже 1000 экземпляров. Читают опять же поэтов в интернете, на разных сетевых ресурсах. Показателем считаются лайки, но их часто ставят автоматически своим друзьям и знакомым. Некоторые авторы выпрашивают отметить их. Существуют и технологии «накручивания» прочтений.
О каком престиже говорить и кого? Членов объединяемых в единый Союз писателей авторов или вообще всех пишущих, а их миллионы? Ведь права-то одинаковые, книгу за свои деньги может издать любой, кто их имеет, и назвать себя писателем. В СССР это было невозможно, книгоиздание было в руках государства. Частных издательств не было. То есть издавались только отрецензированные, одобренные рукописи в государственных издательствах. И члены СП СССР, и молодые, для которых учреждались молодежные серии, и тиражи книг молодых тоже были достойными. А писателем считался только член Союза писателей СССР, то есть по профессии писатель. И количество писателей было не больше 10 тысяч. Именно избранность была причиной престижа профессии, который и подымало государство, в том числе и воспитанием читателя с первых лет жизни.
Престижной может быть профессия, а ее нет. Оценка произведения должна быть на уровне государства и критики. Первое не спешит активно вмешаться в процесс, вторая была практически уничтожена. Да и оценка отдельного критика не может быть значимой, как в Советское время, когда критическая статья в «Правде» или «Литературной газете» часто становилась приговором, если не писателю в целом, то книге. Изменить можно почти всё, но для этого надо иметь желание и возможности. Труднее всего вернуть читателя, у которого сейчас много других интересов, возможностей, которых раньше не было. А отношение к отдельным писателям — это уже другое, это не престиж профессии.
Еще добавлю, что едва ли стоит размножать писателей, как это делается сейчас. Учат писать, делают поэтов и прозаиков, а такая ли это сейчас важная сфера жизни общества. Нужны талантливые люди в литературе, а не те, кого просто научат что-то писать в прозе или рифмованными строчками. Постоянный разговор о молодых литераторах, возможность собирать их в разных городах и привлекает многих. Как было уже не однажды сказано, это не литература, а литературный туризм. Хотя понять это могу. Общение с другими талантливыми авторами является составной частью творческого процесса, способствует росту молодежи. Но централизация, происходящая сейчас, когда в одном городе собирают литераторов и Юга, и Севера, и Сибири на общие семинары, не совсем правильна. Все-таки творческие особенности везде свои. Где-то символами являются горы или степи, а где-то льды и снега. Образная система состоит из этого, да и характеры разные. Надо четче разграничивать мероприятия по регионам. Не случайно в Советское время приоритет был за областными и зональными семинарами, а не всероссийскими. Всесоюзное совещание молодых писателей было одно, и то один раз в четыре года.
Массовый читатель — это хорошо, массовая литература едва ли? Ведь талант — всегда редкость. А как увлечение сочинительством приемлемо, но как массовое «писательство» уже несет и негатив. К тому же профессия предполагает и возможность зарабатывания денег этой профессией. Именно профессия, а не увлечение в свободное от основной работы время.
Вы хорошо раскладываете факты, уважаемый Сергей Адольфович. Однако же в вашем ответе я так и не увидел рецепт того, как можно исправить сложившуюся ситуацию. И, кстати говоря, ваш тезис о том, что государство не хочет вмешиваться в данную проблему, не соответствует действительности. Уже неоднократно околокремлёвские чиновники за два последних десятилетия делали попытки что-то изменить в российском литературном сообществе. И не только среди литераторов, но и среди театров тоже. Но наши деятели культуры и искусства всякий раз подымаются на дыбы, поскольку боятся, что введение цензуры или регулирующих их деятельность законов оставит многих из них без работы и средств к существованию, поскольку они будут выкинуты из профессии как профнепригодные. Поэтому они и отстаивают свободу творческого самовыражения, чтобы просто-напросто оправдывать любое бездарное произведение, дескать, «художник так видит, и всё» на этом.
Но важно другое. А именно то, что с этим делать. И хотя вы правильно отмечаете, что мы с вами не имеем возможности прямо завтра издать закон, предполагающий возвращение профессии писателя в нашей стране, но никто не может помешать нам давать прогнозы на будущее и высказывать свои идеи относительно того, как остановить снежный ком под названием дурновкусие.
И лично я считаю, что если не начать бить во все колокола, то прогноз самый неблагоприятный. И не за горами тот день, когда такие люди, как Эллочка-людоедка из «Двенадцати стульев», будут не сатирической карикатурой, а обыденностью.
Но у меня, как мне представляется, есть подходящая идея, как решить данный вопрос. И хотя я не могу гарантировать, что с помощью того, о чем я скажу далее, можно полностью излечить общество, но я убеждён, что рецессия наступит однозначно.
А заключается моя идея в следующем.
Раз нельзя запретить писать всем желающим, то и не надо. Пусть пишут. Но у государства есть рычаги управления. И оно вполне может издать щадящий закон, который будет предполагать либо наличие документа о том, что пишущий человек прошёл аттестацию и является профессионалом своего дела, либо обязан маркировать свою «писанину» как непрофессиональную и, возможно, наносящую вред для общества. И, на мой взгляд, это очень даже справедливо. Особенно в контексте того, что юные читатели часто всякий вздор из интернета воспринимают как нечто само собой разумеющееся.
И создать такие центры в каждом городе — это даже выгодно государству. Во-первых, будет расти общий уровень образованности. Во-вторых, люди, которые пишут, если захотят продолжать свою литературную деятельность, будут стремиться к профессиональному уровню, чтобы пройти аттестацию. Но и качество читателя начнёт расти в конце концов, поскольку читатель будет интуитивно отдавать предпочтение писателю, прошедшему аттестацию.
Вероятно, вы захотите как-то прокомментировать всё то, о чём я написал выше. Буду только рад.
Быстро невозможно. На это уйдет не один десяток лет, если государство захочет восстановить русскую литературу. Пока такого желания нет. Разрушить легко, восстанавливать трудно. Писатель не коллективная фигура, а штучная. Никто не назовет рецепт восстановления престижа профессии писателя, если профессия упразднена. Кто будет проводить аттестацию, ведь чаще всего возглавляют разные организации тоже люди небольшого таланта, и они будут определять, кто из такой массы достойный, а кто нет? Надо при аттестации оставлять те же десять тысяч из двух миллионов. Это будет шок. Да и не удалить их, они в интернете будут себя продвигать и говорить, что они самые талантливые, поэтому их убрали. Я совершенно согласен с тем, что надо делать именно отбор, аттестацию, но делать ее некому. Может, отсутствие престижа из-за массовости и станет решением вопроса. Останутся те, кто не может не писать, а не те, кто хочет себя возвысить тем, что он писатель по инерции с советским временем, когда престиж был. И отсутствие престижа и материальной заинтересованности отобьет желание писать у большинства. Они займутся общественнополезными делами, которые будут престижнее, чем бездарное писательство. Да и развитие литературного туризма остановить, когда молодые едут просто для того, что им хочется побывать в новом интересном месте, встретиться с друзьями, потусоваться. Так и говорят. Я-то знаю, поскольку общаюсь с большим количеством молодых от 20 до 40 лет. И талантливые молодые тоже крайне озабочены состоянием литературы сейчас. А тусовщики довольны, они получили развлечение. Но вина здесь больше не молодых, а старших, которые заманивают людей в литературу, не давая никаких перспектив. Известна фраза: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Так примерно звучит. Да и не знают молодые другой реальности, они считают, что вот эта вакханалия и есть литература. К тому же те, кто ищут развлечений от литературы, гораздо легче объединяются, а наиболее талантливые пишут, оргработа их мало интересуют. В итоге оказываются в зависимости от организаторов фестивалей, конкурсов и прочего. А у тех, кроме собственного возвеличивания, еще и материальная заинтересованность: получение грантов, субсидий, финансирование от администраций городов, приспосабливающих литературу под туризм. Да, путь один: отсев «не писателей», перестройка литературного процесса не под массовость, а под единичность талантливых людей или даже их сообщество. А уже потом возвращение профессии «писатель» официально. Сейчас она формальная. Но дело в том, что прием в Союз писателей малоталантливых людей продолжается. Это нужно руководителям областных организаций, с которых спрашивают и численность, и оргработу. А организаторы разных мероприятий требуют приема их в Союз, который не является профессиональным, поэтому взгляд на вступающих, планка для вступления в организации занижена. Без организаторов тоже невозможно. Я в свое время предлагал ввести фигуру организатора литературного процесса, равноценную по статусу писателю. Но это пропустили мимо ушей. А им хочется считать себя писателями. Но читатели-то всё больше отворачиваются от литературы, и на встречи с такими писателями с трудом собирают два десятка читателей, а точнее, слушателей. Поэтому создаются дополнительные привлекающие моменты: музыкальные, театральные, эпатажные. Вот такие мысли. У нас они совпадают. Первично желание что-то изменить, а потом работа в этом направлении. Все попытки изменений проваливаются.
Нужен не только профессиональный писатель, но и профессиональный грамотный читатель, который может отличить настоящую литературу от разных поделок, привлекающих только тематикой и какими-то моментами, не относящимися к творчеству. А основа литературы известна, ее составляющие: тема, сюжет, язык. Литературный язык является первоосновой творчества. Чувство языка закладывается в человека на генетическом уровне или достигается большим трудом. Когда я преподавал литературное творчество в гимназии, умный ученик задал вопрос: «Что важнее для писателя: талант или труд?» Я ответил стандартно, что и то и другое. А когда задумался уже после, насчитал примерно двадцать составляющих, которые определяют состоятельность писателя.
Скажите, есть ли в вашей литературной коллекции или, если быть точным, в книжном шкафу нечто особенное, что не только мило вашему сердцу, но и хочется порекомендовать к прочтению?
Относительно литературной коллекции ответить нетрудно. Это в молодости определяешь для себя любимых поэтов, а сейчас судишь только то, что создано ими. И у Пушкина, и у Лермонтова, если брать 19 век, есть великие стихи и есть проходные, даже откровенно необязательные. Но судишь по вершинным достижениям. Поэтому я оцениваю не поэтов целиком, а то, что действительно гениально или хотя бы талантливо. То же самое с Серебряным веком: Блок, Есенин, Гумилев, Маяковский существуют для меня тем, что они создали лучшее, а не всем, что написали. В советской поэзии, которую знаю очень хорошо, тоже десятки поэтов, у которых есть выдающиеся стихи, а есть неудачные. И в современной поэзии то же самое. Поскольку много читаю молодых, нахожу талантливое, которого, конечно, меньше, чем у классиков, но достаточно. С гениальным пока сложно, оценится потом. Классики известны, современников постоянно отслеживаю. Список живущих рядом поэтов, у которых что-то нахожу, длинный, и называть отдельных из них просто неуместно. Но личность состоит не только из текстов. Если отойти немного в сторону и взять Высоцкого, конечно, взвешиваешь его не только как автора песен, но и как актера, борца за свое творчество, человека, с которым жил многие годы, слушая его и о нем. То же самое и с классиками, которых еще принимаешь как мыслителей, теоретиков, где они открыли для меня своими статьями не меньше, чем в стихах. И Пушкин, и Блок, и Гумилев, и Мандельштам, и Цветаева, и Ахматова, и Адамович, и многие другие. Читаю и воспоминания о них, чтобы понять, откуда что произросло. Без этого иногда понять поэзию великих невозможно. Ведь они писали себя, свои переживания, судьбоносные моменты, свою жизнь, пропуская всё через душу.
Рад, что вы согласились на это интервью. Хотел бы начать с вопроса о вашем детстве. Расскажите о нём поподробнее.
Мой земной путь начинался на окраинной улице Рыбинска, где в послевоенное время было не до разговоров о поэзии. Жили здесь переселенцы из Мологского края, затопленного водами Рыбинского водохранилища, в домах, тоже перевезенных из тех мест. Многие были хорошо знакомы еще по Мологе, поэтому заходили к соседям в любое время. Это человеческое родство мне запомнилось, а особенно праздничные гулянки, когда за столом собиралось человек по двадцать. Выпивали, пели песни, рассказывали о своей жизни. Разговоры были самые обыденные: о работе, детях, о том, где побывали: один ездил в деревню, другой в столицу, за границу тогда и мысли не было попасть. За столом всех объединяли песни: и народные, и советские.
А я, совсем еще мальчонка, пытался переделывать, а точнее, коверкать песенные тексты, несовершенные в литературном плане, но с интересными сюжетами. Начинали застолье обычно с одной из двух песен. Первая — «Хас-Булат удалой». Я считал, что она народная, но потом узнал, что слова песни написаны А. Аммосовым, музыка О. Агреневой-Славянской. Первый был военным, служил некоторое время под командой К. Данзаса, секунданта А. Пушкина на роковой дуэли. Вторая — русский композитор из музыкальной семьи.
Хас-Булат удалой!
Бедна сакля твоя;
Золотою казной
Я осыплю тебя…
Так обращается к старому горцу князь с просьбой отдать ему молодую жену, которая неверна старику. Кончается всё трагически.
Вторая песня — «Когда б имел златые горы». Она и обозначается в песенниках как народная.
Когда б имел златые горы
И реки полные вина,
Всё отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.
Существуют разные варианты этих песен. Пели также «Тонкую рябину», «Окрасился месяц багрянцем», «Когда я на почте служил ямщиком», «По муромской дорожке», «Вот кто-то с горочки спустился», «Калина красная»... Отец знал много других. Тогда их называли уголовными или блатными, теперь подогнали под шансон. Таких тоже помнится немало, не стану их перечислять. Популярны были песни романтические: «В нашу гавань заходили корабли» (кстати, так называлась телевизионная программа Эдуарда Успенского), «Девушка из маленькой таверны», «Юнга Билл» и другие. Герои этих песен — моряки, пираты, их возлюбленные.
Дедушка мой был из семьи потомственных дворян, прошел обучение в гимназии, и напевал иногда песню на стихи известного поэта XIX века Федора Глинки:
Не слышно шуму городского,
В заневских башнях тишина!
И на штыке у часового
Горит полночная луна!
Запомнилась и другая песня, в которой такой первый куплет:
Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно,
Дни и ночи часовые
Стерегут мое окно.
Это песня волжских босяков, записанная Максимом Горьким. Веселые тоже были. Конечно, об авторстве песен я узнал позже, в зрелом возрасте.
Частью каждого дома был чердак, где складывались разные вещи. В магазинах тогда мебели практически не продавали. Библиотек домашних ни у кого не было. Книги брали в городских библиотеках. На чердаке нашем стоял большой, обитый полосками жести сундук, какие теперь показывают в фильмах о прошлом. И в комнатах были такие же сундуки. Складывалось в них белье, в том числе шерстяное, часто пропахшее нафталином, который защищал своим едким, стойким запахом от моли. В поздние годы слово «нафталин» стало нарицательным, обозначающим некую застарелость, иногда оно употребляется и по отношению к старомодному человеку.
А в том чердачном сундуке у нас хранились старые книги. В основном это были учебники: по истории древнего мира и средних веков, астрономии, литературе (хрестоматии) и другим предметам. Из художественных я ничего не запомнил, кроме сказок: русских народных, украинских и самых увлекательных, необычных – нивхских. Читал мне дедушка, годам к шести я сам грамоту освоил. Тогда же прочитанное дедом помнилось. Кроме сказок, первыми произведениями были пушкинские и некрасовские стихи. Особенно мне полюбились «Песнь о вещем Олеге» и «Генерал Топтыгин». Когда в доме собирались гости, меня просили что-то продекламировать, и я охотно это делал. Конечно, не любовь к поэзии проявлялась, а привлекало содержание стихов, но, возможно, в детском сознании откладывалось что-то и проявилось позднее.
К школе я хорошо подготовился. Писали тогда ручками с перьями, авторучек еще не было. В начальных классах всё шло успешно. В этом опять же большая заслуга моего деда, который занимался со мной, следил за оценками. К сожалению, ничего интересного про дальнейшие школьные годы сказать не могу. Школа примерной в городе не считалась. Читал я по-прежнему много, но бессистемно. С пятого класса больше проводил времени в спорте, на природе, что приносило пользу, которую оценил уже в зрелом возрасте.
Стихи неожиданно напомнили о себе в мои двенадцать лет, когда я написал несуразное патриотическое стихотворение. Но оно было единственным, без продолжения. В этот год и детство мое закончилось, слегла в больницу мать, куда и потом попадала часто. Сказались последствия ленинградских блокадных месяцев. Я был предоставлен самому себе, стал самостоятельным, практически взрослым человеком, на котором лежали домашние заботы. Дедушка тоже болел, у него отказали ноги, отцу было не до меня. Бабушка умерла рано, в 50 лет.
Я благодарен тому времени, набрался опыта и множества впечатлений, которые пригодились с возвращением к поэзии уже в 16 лет, когда поступил в Рыбинский полиграфический техникум. Творчество захватило меня по-настоящему. Это было не юношеское, возрастное пристрастие, а осмысленное, с обильным чтением стихов, книг по теории литературы. Первое стихотворение напечатано в городской газете в 17 лет. Здесь я встретил наставников, которые потом вели меня по жизни. Литература тогда считалась серьезной профессией, а не развлечением, как сейчас для многих. Это мне объяснили сразу.
Из вашего ответа становится понятно, что в общем и целом у вас было вполне обычное детство для того времени. Послевоенные трудности заставляли практически всех детей и подростков взрослеть гораздо раньше, чем положено... И это печально.
А вот что касается отношения к поэзии как к серьёзной профессии, то тут я бы хотел вас спросить.
Есть мнение, что настоящие стихи приходят к человеку только под вдохновением. И совершенно непонятно, когда и как это вдохновение к поэту приходит и придёт ли снова. В таком случае как можно сделать серьёзной профессией то, что не укладывается в такие категории, как системность и постоянство?
Я имел в виду то, что для того, чтобы творить, надо еще обрести немало знаний. Обычный юноша не станет читать книги по теории стихосложения и постигать секреты мастерства классиков и современников. Это происходит только с теми, кто «заболел» поэзией и уже получил напутствие от наставников, что в советское время было непросто. Тогда ведь литература была профессией весьма почетной. Не как сейчас. А вдохновение — это уже другое. Но про то время могу сказать, что большинство поэтов писали и для денег. Работа есть работа. И Пушкин писал для денег. И торговался по поводу суммы гонорара. Это разные вещи. Вдохновение рождается из полноценной жизни, когда человек-поэт влюбляется, размышляет о жизни, общается с природой, читает книги. Если сидишь дома на диване, едва ли придет вдохновение.
Навязывалась «рабочая тема». Наши тогдашние классики, например, Евтушенко, премии зарабатывали именно на таких поэмах, как «Братская ГЭС», «Мама и нейтронная бомба» и прочем. На стихах о партии, Ленине. Кстати, у меня такие стихи просто не писались, ни о Ленине, ни о партии не написал ни одного стихотворения. Хотя в партии был 17 лет. Потому что тогда редактором даже мелкой, заводской газеты ты не мог быть, если не вступил в КПСС.
Всё, что вы сказали, я, безусловно, понимаю. И то, что Пушкин получил двенадцать тысяч рублей за «Евгения Онегина», мне также известно... И да. Советская цензура, несмотря на свои сильные стороны, была настолько пропитана коммунистической идеологией, что нередко ломала судьбы весьма талантливых авторов, которые не желали приспосабливаться к советскому режиму...
Вы сказали: «Вдохновение — это уже другое». И я хотел бы уточнить.
Для вас вдохновение — это некое божественное провидение, которое улавливает тонкая душа поэта, погружая его в особое состояние, в котором он и пишет свои лучшие произведения? Или же вы воспринимаете вдохновение скорее как гамму чувств, которые испытывает поэт в результате жизненных переживаний?
Вдохновение — это состояние такого вхождения в творчество, при котором стихи буквально диктуются поэту. Об этом говорили многие. В частности, Ахматова. Писать без вдохновения бессмысленно. Но вдохновение тоже имеет свой уровень. Ведь у Пушкина Болдинская осень была одна, вторая не получилась. Вдохновение — это часть процесса написания, а не повседневное состояние. Но вдохновение ничего не даст, если тебе нечего сказать. Надо сначала себя наполнить, а потом выплескивать в стихи. А если ты пустой и твой багаж душевный и жизненный мал, сказать будет нечего. И рождение образов тем ярче, чем шире диапазон знаний. Без этого стихи будут набором банальностей, лексических и ментальных штампов, перепевом уже сказанного.
Но процесс стихотворчества надо разделить на три части. Первая — озарение, переживание, замысел; вторая — именно работа по вдохновению, воплощение переживания в слова; третье — доработка уже написанного, раньше это называли шлифовкой: замена определений на более ёмкие, выражающие смысл, звучание. Музыка — важнейшая составляющая. Известная формула Заболоцкого «Мысль-образ-музыка». Если строка не звучит, если она корявая и спотыкаешься на каком-то слове, твоя поэтическая энергия не передаётся читателю.
Хотел бы с вами согласиться в том, что одного вдохновения недостаточно! Но, с другой стороны, сколько в истории человечества было поэтов, которые уже в молодом возрасте, не имея ни академических знаний, ни тем более жизненной опытности, выдавали просто шедевры глубокомыслия... И объяснить это явление иначе как божественным провидением лично я никак не могу. Что ж. У нас складывается интересный разговор.
Скажите, Сергей Адольфович, современная поэзия в условиях свободы публикации в интернете скорее прогрессирует или же, наоборот, деградирует?
По поводу первого, что одного вдохновения недостаточно. Конечно. Главное — талант поэта. Без этого просто невозможно. Хотя бы искорка должна быть, которую потом надо раздувать. Талант от природы, от Бога. Конечно, можно научиться рифмовать, даже логически складывать слова в некое подобие стихов, но только подобие. Хотя озарения могут быть и у бездарных людей. А может, они все-таки имеют какие-то задатки, но их не заметили или, еще хуже, убили разные наставники, направив начинающего автора не в ту сторону. Истинно поэтические открытия можно подтвердить на примере детей. Они часто такое выдают, что взрослому на ум не придет, поскольку многое видят впервые и обозначают по-своему, еще не зная взрослого восприятия предмета или явления. И выглядит это свежо, а иногда почти гениально. Для поэта и важно сохранить в себе детское восприятие мира, насколько возможно. Знания могут и во вред пойти. Сейчас это сплошь и рядом. Молодые, чтобы удивить читателя, наполняют тексты чем попало, стремясь выглядеть умней. Но уходит из стихов поэзия.
Если говорить о шедеврах, которые рождены людьми, не имеющими глубокие всесторонние знания, то надо приводить примеры. Ведь если брать 19 век, то часто к 15 годам люди получали столько знаний, сколько сейчас и к 50 не получают. Я имею в виду не крепостных крестьян, а тех, кто воспитывался в дворянских семьях. Ведь и великие поэты в большинстве своем выходили из дворян или тех, кто соприкасался с этим сословием. И знания тоже бывают разные. Я ведь не говорю о книжных знаниях, а о знаниях природы, живого мира, что в той России существовало у детей, живших именно в природе, а не в городских многоэтажках. Но опять же, создавали они свои шедевры из того, чем были наполнены.
Современная поэзия не прогрессирует и не деградирует. Здесь надо сразу определиться, что подразумевать под поэзией, массовую или штучную? «Массовая поэзия», которая сейчас процветает в интернете, кроме вреда, ничего не приносит. Обилие разных фестивалей, мастерских, школ запредельно. И внимание молодым излишне. Оно должно быть, но, как уже сказал, изначально искать надо людей талантливых. Когда я проходил период ученичества, было всё иначе. На областных семинарах опытные наставники сразу выявляли тех, кому в литературе делать нечего, по крайней мере с теми задатками, которые они видели. И поскольку литература была престижной профессией, дающей к тому же и привилегии, и книги, и трудовой стаж, и заработок в виде гонораров от публикаций и выступлений, за количеством писателей не гнались. Прямо говорили, чтобы молодой автор нашел себе другое занятие. Сейчас это невозможно, есть интернет и разные пути в «литературу» или окололитературное пространство, в котором и знания можно обретать, и просто тусоваться с друзьями. Если тогда начинающий автор не сдавался и продолжал писать, работая над собой и над словом, он мог добиться все-таки признания. Плюсы современной литературы — свобода выражения, минусы — отсутствие серьезных стимулов для роста, и материальных, и в смысле престижа профессии, которой сейчас нет. Ну и присутствие Бога в нашей жизни крайне важно. Остальное зависит от упорства и серьезных намерений. Но миллионы поэтов — это многовато, тем более что часто назвать их поэтами можно только условно. Раньше мы не смели себе такие звания присваивать до вступления в Союз писателей СССР. Могли за это осудить. И еще с кем сравнивать, с Пушкиным, Лермонтовым, Блоком, Есениным, Цветаевой или с Демьяном Бедным. Но классики нынешнего времени будут определены только после ухода из жизни, иногда через десятилетия. И определит читатель, о котором мы часто забываем. Он и уходит, о чем постоянно ведутся разговоры. А заставить читать то, что человек не хочет, невозможно.
Еще добавлю к вопросу о современной литературе. Если подразумевать молодую, то привлечение молодых к литературному процессу можно рассматривать с двух сторон. Если смотреть на это как на увлечение, то ничего плохого нет. А если рассматривать как нечто серьезное, то выглядит это вроде «призыва ударников в литературу» в начале 1930-х годов. Поначалу всё выглядело безобидно, но сейчас понимаешь, что отделение молодых от старшего поколения чревато последствиями. Ведь в 50–80-е годы мы варились в одном котле с фронтовиками, людьми с героическими биографиями. Так передавались традиции. Сейчас молодых отделили, наставников настоящих мало. Мастерами на семинарах уже выступают 30-летние, не имеющие опыта. И молодые варятся в своих кастрюльках, причем в разных: у одного мастера, потом у другого, потом у третьего, и хорошо, если эти мастера имеют необходимое образование и достойный жизненный и литературный стаж. Но таких надо еще воспитать, вырастить. Нужно знать литературу от и до. А семинаристы называют из советского времени два-три имени. Да из всей русской поэзии тоже несколько имен, знакомых по школьной программе и сетевым ресурсам.
Благодарю вас за исчерпывающий ответ, в котором вы затронули, как мне кажется, несколько важных моментов. И один из них — это престиж писательской профессии. Сегодня слово «писатель», как вы верно сказали, как будто и ломаного гроша не стоит. И это, конечно, абсолютно несправедливо, учитывая, что писательский труд порою просто погружение в чистилище. Но если мы понимаем это, то возникают вопросы, которые я и хочу задать вам.
Возможно ли, на ваш взгляд, вернуть престиж в писательскую профессию? И каким образом это можно сделать?
Чтобы ответить на вопрос, надо задать несколько вопросов. Как вернуть престиж того, чего нет? На сегодняшний день профессии «писатель» не существует, она только в головах пишущих, а в реестре профессий ее нет. Этот вопрос подымается не первый год, но пока никто его не решил. Это может установить только государство. Сейчас все пишущие по желанию состоят в различных общественных организациях, которые равны в своих правах, как бы ни назывались.
Второй вопрос: среди кого поднять престиж или перед кем? В государстве или в читательской среде? Если в государстве, то надо, как в Советском Союзе, обозначить это хорошим материальным обеспечением, различными льготами и, утвердив профессию, определить миссию служения государству. Но это уже было со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе цензурой, обязанностями, которые свойственны любой профессии. Писатель в СССР был служащим идеологического направления. Но с идеологией пока сложно в конкретности. Ведь назвать идеологией патриотизм, любовь к Родине нельзя. Это и не утверждено именно для писателя, а качества, равные для всех. А идеология — понятие государственное. В союзах писателей и литераторов прописаны обязанности членов общественных организаций и не более того.
Если же говорить о престиже в читательской среде, то его определяет читатель. Хорошее произведение имеет вес, и поэтому его создатель обретает если не престиж, то уважение и спрос на свои книги, публикации. Но число читателей по сравнению с советским временем сильно уменьшилось. Да и книгу надо ещё издать и распространить. А прежде кто-то должен определить ее ценность. Кто сейчас определит? Критика не является авторитетом, государственная оценка существует только в определенных направлениях и не всегда является отражением качества. На первом месте часто стоит тематическая необходимость. Я не говорю, что необходимые тематически произведения некачественные, но не всегда являются таковыми. Они разные. А сам читатель будет потреблять то, что ему нравится, в зависимости от уровня образования, нравственных установок и прочих составляющих, напрямую не связанных с достоинствами литературными.
Следующие моменты, которые упомянул, — издание и распространение книг. Давайте сравним опять же с советским временем. С 19 веком и началом 20-го сравнивать едва ли уместно по причине отсутствия массовой грамотности. Тогда книги и журналы были предметом потребления культурной элиты.
В Советском Союзе, в первую очередь, читать было престижно. Если человек достаточного уровня образования, да и не только, не прочитал новые издания Бондарева, Астафьева, Белова, Распутина, Маканина, Трифонова, он считался ущербным. Поскольку литература широко обсуждалась, воспитывался всесторонне развитый человек. Журналы выписывали практически все семьи, и тиражи их были сотни тысяч экземпляров. Взял, что попало под руку: «Юность» 1986 года — 3 миллиона 310 тысяч экземпляров, «Молодая гвардия» 1982 года — 800 тысяч. Другие тоже были многотиражные. Даже тираж альманаха «Поэзия» 1978 года — 65 тысяч экземпляров. Их выписывали практически все библиотеки СССР, книги тоже рассылались по всей стране. Сейчас тиражи бумажных изданий мизерные, авторы выкладывают свои публикации в интернет, но едва ли читатели их многочисленны. Кто читает интернет-издания, определить трудно. Тиражи книг тоже от 100 штук до нескольких тысяч (проза). Человека читать не заставишь, издатели и определяют тиражи в зависимости от спроса. В советское время достать поэтические книги Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной — шестидесятников — было невозможно, сейчас поэзию трудно продать даже при тираже 1000 экземпляров. Читают опять же поэтов в интернете, на разных сетевых ресурсах. Показателем считаются лайки, но их часто ставят автоматически своим друзьям и знакомым. Некоторые авторы выпрашивают отметить их. Существуют и технологии «накручивания» прочтений.
О каком престиже говорить и кого? Членов объединяемых в единый Союз писателей авторов или вообще всех пишущих, а их миллионы? Ведь права-то одинаковые, книгу за свои деньги может издать любой, кто их имеет, и назвать себя писателем. В СССР это было невозможно, книгоиздание было в руках государства. Частных издательств не было. То есть издавались только отрецензированные, одобренные рукописи в государственных издательствах. И члены СП СССР, и молодые, для которых учреждались молодежные серии, и тиражи книг молодых тоже были достойными. А писателем считался только член Союза писателей СССР, то есть по профессии писатель. И количество писателей было не больше 10 тысяч. Именно избранность была причиной престижа профессии, который и подымало государство, в том числе и воспитанием читателя с первых лет жизни.
Престижной может быть профессия, а ее нет. Оценка произведения должна быть на уровне государства и критики. Первое не спешит активно вмешаться в процесс, вторая была практически уничтожена. Да и оценка отдельного критика не может быть значимой, как в Советское время, когда критическая статья в «Правде» или «Литературной газете» часто становилась приговором, если не писателю в целом, то книге. Изменить можно почти всё, но для этого надо иметь желание и возможности. Труднее всего вернуть читателя, у которого сейчас много других интересов, возможностей, которых раньше не было. А отношение к отдельным писателям — это уже другое, это не престиж профессии.
Еще добавлю, что едва ли стоит размножать писателей, как это делается сейчас. Учат писать, делают поэтов и прозаиков, а такая ли это сейчас важная сфера жизни общества. Нужны талантливые люди в литературе, а не те, кого просто научат что-то писать в прозе или рифмованными строчками. Постоянный разговор о молодых литераторах, возможность собирать их в разных городах и привлекает многих. Как было уже не однажды сказано, это не литература, а литературный туризм. Хотя понять это могу. Общение с другими талантливыми авторами является составной частью творческого процесса, способствует росту молодежи. Но централизация, происходящая сейчас, когда в одном городе собирают литераторов и Юга, и Севера, и Сибири на общие семинары, не совсем правильна. Все-таки творческие особенности везде свои. Где-то символами являются горы или степи, а где-то льды и снега. Образная система состоит из этого, да и характеры разные. Надо четче разграничивать мероприятия по регионам. Не случайно в Советское время приоритет был за областными и зональными семинарами, а не всероссийскими. Всесоюзное совещание молодых писателей было одно, и то один раз в четыре года.
Массовый читатель — это хорошо, массовая литература едва ли? Ведь талант — всегда редкость. А как увлечение сочинительством приемлемо, но как массовое «писательство» уже несет и негатив. К тому же профессия предполагает и возможность зарабатывания денег этой профессией. Именно профессия, а не увлечение в свободное от основной работы время.
Вы хорошо раскладываете факты, уважаемый Сергей Адольфович. Однако же в вашем ответе я так и не увидел рецепт того, как можно исправить сложившуюся ситуацию. И, кстати говоря, ваш тезис о том, что государство не хочет вмешиваться в данную проблему, не соответствует действительности. Уже неоднократно околокремлёвские чиновники за два последних десятилетия делали попытки что-то изменить в российском литературном сообществе. И не только среди литераторов, но и среди театров тоже. Но наши деятели культуры и искусства всякий раз подымаются на дыбы, поскольку боятся, что введение цензуры или регулирующих их деятельность законов оставит многих из них без работы и средств к существованию, поскольку они будут выкинуты из профессии как профнепригодные. Поэтому они и отстаивают свободу творческого самовыражения, чтобы просто-напросто оправдывать любое бездарное произведение, дескать, «художник так видит, и всё» на этом.
Но важно другое. А именно то, что с этим делать. И хотя вы правильно отмечаете, что мы с вами не имеем возможности прямо завтра издать закон, предполагающий возвращение профессии писателя в нашей стране, но никто не может помешать нам давать прогнозы на будущее и высказывать свои идеи относительно того, как остановить снежный ком под названием дурновкусие.
И лично я считаю, что если не начать бить во все колокола, то прогноз самый неблагоприятный. И не за горами тот день, когда такие люди, как Эллочка-людоедка из «Двенадцати стульев», будут не сатирической карикатурой, а обыденностью.
Но у меня, как мне представляется, есть подходящая идея, как решить данный вопрос. И хотя я не могу гарантировать, что с помощью того, о чем я скажу далее, можно полностью излечить общество, но я убеждён, что рецессия наступит однозначно.
А заключается моя идея в следующем.
Раз нельзя запретить писать всем желающим, то и не надо. Пусть пишут. Но у государства есть рычаги управления. И оно вполне может издать щадящий закон, который будет предполагать либо наличие документа о том, что пишущий человек прошёл аттестацию и является профессионалом своего дела, либо обязан маркировать свою «писанину» как непрофессиональную и, возможно, наносящую вред для общества. И, на мой взгляд, это очень даже справедливо. Особенно в контексте того, что юные читатели часто всякий вздор из интернета воспринимают как нечто само собой разумеющееся.
И создать такие центры в каждом городе — это даже выгодно государству. Во-первых, будет расти общий уровень образованности. Во-вторых, люди, которые пишут, если захотят продолжать свою литературную деятельность, будут стремиться к профессиональному уровню, чтобы пройти аттестацию. Но и качество читателя начнёт расти в конце концов, поскольку читатель будет интуитивно отдавать предпочтение писателю, прошедшему аттестацию.
Вероятно, вы захотите как-то прокомментировать всё то, о чём я написал выше. Буду только рад.
Быстро невозможно. На это уйдет не один десяток лет, если государство захочет восстановить русскую литературу. Пока такого желания нет. Разрушить легко, восстанавливать трудно. Писатель не коллективная фигура, а штучная. Никто не назовет рецепт восстановления престижа профессии писателя, если профессия упразднена. Кто будет проводить аттестацию, ведь чаще всего возглавляют разные организации тоже люди небольшого таланта, и они будут определять, кто из такой массы достойный, а кто нет? Надо при аттестации оставлять те же десять тысяч из двух миллионов. Это будет шок. Да и не удалить их, они в интернете будут себя продвигать и говорить, что они самые талантливые, поэтому их убрали. Я совершенно согласен с тем, что надо делать именно отбор, аттестацию, но делать ее некому. Может, отсутствие престижа из-за массовости и станет решением вопроса. Останутся те, кто не может не писать, а не те, кто хочет себя возвысить тем, что он писатель по инерции с советским временем, когда престиж был. И отсутствие престижа и материальной заинтересованности отобьет желание писать у большинства. Они займутся общественнополезными делами, которые будут престижнее, чем бездарное писательство. Да и развитие литературного туризма остановить, когда молодые едут просто для того, что им хочется побывать в новом интересном месте, встретиться с друзьями, потусоваться. Так и говорят. Я-то знаю, поскольку общаюсь с большим количеством молодых от 20 до 40 лет. И талантливые молодые тоже крайне озабочены состоянием литературы сейчас. А тусовщики довольны, они получили развлечение. Но вина здесь больше не молодых, а старших, которые заманивают людей в литературу, не давая никаких перспектив. Известна фраза: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Так примерно звучит. Да и не знают молодые другой реальности, они считают, что вот эта вакханалия и есть литература. К тому же те, кто ищут развлечений от литературы, гораздо легче объединяются, а наиболее талантливые пишут, оргработа их мало интересуют. В итоге оказываются в зависимости от организаторов фестивалей, конкурсов и прочего. А у тех, кроме собственного возвеличивания, еще и материальная заинтересованность: получение грантов, субсидий, финансирование от администраций городов, приспосабливающих литературу под туризм. Да, путь один: отсев «не писателей», перестройка литературного процесса не под массовость, а под единичность талантливых людей или даже их сообщество. А уже потом возвращение профессии «писатель» официально. Сейчас она формальная. Но дело в том, что прием в Союз писателей малоталантливых людей продолжается. Это нужно руководителям областных организаций, с которых спрашивают и численность, и оргработу. А организаторы разных мероприятий требуют приема их в Союз, который не является профессиональным, поэтому взгляд на вступающих, планка для вступления в организации занижена. Без организаторов тоже невозможно. Я в свое время предлагал ввести фигуру организатора литературного процесса, равноценную по статусу писателю. Но это пропустили мимо ушей. А им хочется считать себя писателями. Но читатели-то всё больше отворачиваются от литературы, и на встречи с такими писателями с трудом собирают два десятка читателей, а точнее, слушателей. Поэтому создаются дополнительные привлекающие моменты: музыкальные, театральные, эпатажные. Вот такие мысли. У нас они совпадают. Первично желание что-то изменить, а потом работа в этом направлении. Все попытки изменений проваливаются.
Нужен не только профессиональный писатель, но и профессиональный грамотный читатель, который может отличить настоящую литературу от разных поделок, привлекающих только тематикой и какими-то моментами, не относящимися к творчеству. А основа литературы известна, ее составляющие: тема, сюжет, язык. Литературный язык является первоосновой творчества. Чувство языка закладывается в человека на генетическом уровне или достигается большим трудом. Когда я преподавал литературное творчество в гимназии, умный ученик задал вопрос: «Что важнее для писателя: талант или труд?» Я ответил стандартно, что и то и другое. А когда задумался уже после, насчитал примерно двадцать составляющих, которые определяют состоятельность писателя.
Скажите, есть ли в вашей литературной коллекции или, если быть точным, в книжном шкафу нечто особенное, что не только мило вашему сердцу, но и хочется порекомендовать к прочтению?
Относительно литературной коллекции ответить нетрудно. Это в молодости определяешь для себя любимых поэтов, а сейчас судишь только то, что создано ими. И у Пушкина, и у Лермонтова, если брать 19 век, есть великие стихи и есть проходные, даже откровенно необязательные. Но судишь по вершинным достижениям. Поэтому я оцениваю не поэтов целиком, а то, что действительно гениально или хотя бы талантливо. То же самое с Серебряным веком: Блок, Есенин, Гумилев, Маяковский существуют для меня тем, что они создали лучшее, а не всем, что написали. В советской поэзии, которую знаю очень хорошо, тоже десятки поэтов, у которых есть выдающиеся стихи, а есть неудачные. И в современной поэзии то же самое. Поскольку много читаю молодых, нахожу талантливое, которого, конечно, меньше, чем у классиков, но достаточно. С гениальным пока сложно, оценится потом. Классики известны, современников постоянно отслеживаю. Список живущих рядом поэтов, у которых что-то нахожу, длинный, и называть отдельных из них просто неуместно. Но личность состоит не только из текстов. Если отойти немного в сторону и взять Высоцкого, конечно, взвешиваешь его не только как автора песен, но и как актера, борца за свое творчество, человека, с которым жил многие годы, слушая его и о нем. То же самое и с классиками, которых еще принимаешь как мыслителей, теоретиков, где они открыли для меня своими статьями не меньше, чем в стихах. И Пушкин, и Блок, и Гумилев, и Мандельштам, и Цветаева, и Ахматова, и Адамович, и многие другие. Читаю и воспоминания о них, чтобы понять, откуда что произросло. Без этого иногда понять поэзию великих невозможно. Ведь они писали себя, свои переживания, судьбоносные моменты, свою жизнь, пропуская всё через душу.
Ну а теперь наступило время в формате блиц!
Ваша главная черта?
Сказать, какая главная черта, непросто. Но та, которая определяла в большей степени мою жизнь, — это обязательность.
Лучший поэт всех времён?
Здесь я не оригинален. И это не банальный ответ. Пушкин. Он вобрал в себя столько, чего хватило на многих самых разных в самые разные времена.
Какое Ваше любимое занятие?
Если можно это назвать занятием, то поэзия в комплексе: и творчество, и чтение, и всё остальное.
Какие добродетели Вы цените больше всего?
Честность.
Лучший композитор всех времён?
Вот на этот вопрос не могу ответить. И всегда стараюсь избегать категоричности, поскольку собственные взгляды на протяжении жизни меняются. Если же сказать в более широком смысле, то лучший композитор — природа. В ней все звуки, мелодии, из нее черпают все и всё.
К чему Вы испытываете отвращение?
Отвращение наибольшее испытываю к предательству. Слишком часто в жизни предавали из-за корыстных интересов и трусости.
Ваш любимый цвет?
Любимый цвет, наверно, зелёный.
Лучший прозаик всех времён?
Лучший прозаик всех времен. Опять сказать сложно, сами прозаики менялись на протяжении жизни. Но всех ближе мне Тургенев.
Согласились бы на сделку с дьяволом ради бессмертия?
Нет, конечно. Сделки с дьяволом кончаются плохо. Да мы даже и не знаем, чем это оборачивается потом. Но дьявол всегда ходит по пятам со своими изощренными искушениями.
Продолжите фразу: «Русский человек — это...»
«Русский человек — это тот, кто считает себя русским со всеми вытекающими из этого жизненными установками».
Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
Оказавшись перед Богом, ничего не скажу, наверно. Ведь он всё знает обо мне. Просить прощения банально, оправдываться в чем-то глупо. Может, Он в большой степени меня и направлял по жизни, да и всех нас. И то, что при жизни виделось наказанием, потом окажется спасением твоей души. Об этом достаточно сказано и религиозными мыслителями, и святыми.
Наше интервью подошло к своему завершению. Хочу поблагодарить вас и попросить на прощание пожелать что-нибудь нашим читателям.
Читателям хочу пожелать «профессионального роста», то есть знаний, позволяющих отделить настоящую литературу во всем ее многообразии от малограмотного сочинительства. Это большая работа для читателя. Изначально — читать нужно. Сейчас, наверно, взаимно писатель должен воспитывать читателя, но в большей степени читатель писателя своим вниманием или равнодушием. А главное — вообще сохранить читателя. Если он и дальше будет уходить из-за неразберихи в литературе и читать будут только те, кто сами пишут, то ждать ничего хорошего нельзя. Дорогой читатель, отнесись к литературе серьезно, принципиально, с уважением, исходя из тех традиций, которые заложены в прошлом.
Ваша главная черта?
Сказать, какая главная черта, непросто. Но та, которая определяла в большей степени мою жизнь, — это обязательность.
Лучший поэт всех времён?
Здесь я не оригинален. И это не банальный ответ. Пушкин. Он вобрал в себя столько, чего хватило на многих самых разных в самые разные времена.
Какое Ваше любимое занятие?
Если можно это назвать занятием, то поэзия в комплексе: и творчество, и чтение, и всё остальное.
Какие добродетели Вы цените больше всего?
Честность.
Лучший композитор всех времён?
Вот на этот вопрос не могу ответить. И всегда стараюсь избегать категоричности, поскольку собственные взгляды на протяжении жизни меняются. Если же сказать в более широком смысле, то лучший композитор — природа. В ней все звуки, мелодии, из нее черпают все и всё.
К чему Вы испытываете отвращение?
Отвращение наибольшее испытываю к предательству. Слишком часто в жизни предавали из-за корыстных интересов и трусости.
Ваш любимый цвет?
Любимый цвет, наверно, зелёный.
Лучший прозаик всех времён?
Лучший прозаик всех времен. Опять сказать сложно, сами прозаики менялись на протяжении жизни. Но всех ближе мне Тургенев.
Согласились бы на сделку с дьяволом ради бессмертия?
Нет, конечно. Сделки с дьяволом кончаются плохо. Да мы даже и не знаем, чем это оборачивается потом. Но дьявол всегда ходит по пятам со своими изощренными искушениями.
Продолжите фразу: «Русский человек — это...»
«Русский человек — это тот, кто считает себя русским со всеми вытекающими из этого жизненными установками».
Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
Оказавшись перед Богом, ничего не скажу, наверно. Ведь он всё знает обо мне. Просить прощения банально, оправдываться в чем-то глупо. Может, Он в большой степени меня и направлял по жизни, да и всех нас. И то, что при жизни виделось наказанием, потом окажется спасением твоей души. Об этом достаточно сказано и религиозными мыслителями, и святыми.
Наше интервью подошло к своему завершению. Хочу поблагодарить вас и попросить на прощание пожелать что-нибудь нашим читателям.
Читателям хочу пожелать «профессионального роста», то есть знаний, позволяющих отделить настоящую литературу во всем ее многообразии от малограмотного сочинительства. Это большая работа для читателя. Изначально — читать нужно. Сейчас, наверно, взаимно писатель должен воспитывать читателя, но в большей степени читатель писателя своим вниманием или равнодушием. А главное — вообще сохранить читателя. Если он и дальше будет уходить из-за неразберихи в литературе и читать будут только те, кто сами пишут, то ждать ничего хорошего нельзя. Дорогой читатель, отнесись к литературе серьезно, принципиально, с уважением, исходя из тех традиций, которые заложены в прошлом.
Автор публикации Борис Эхтин, главный редактор журнала TERANTELLA.
Июль/2025
