Наша история — это мы сами.
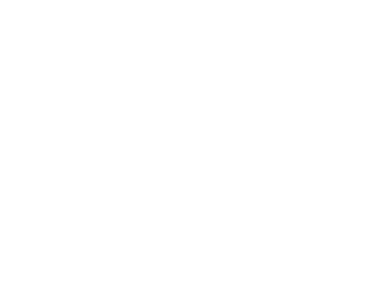
Владимир Георгиевич Гуляев
Российский поэт, прозаик. Лауреат литературной премии журнала «Русская Мысль» (г. Лондон)
Лауреат национальной премии «Золотое перо Руси» (2024)
Российский поэт, прозаик. Лауреат литературной премии журнала «Русская Мысль» (г. Лондон)
Лауреат национальной премии «Золотое перо Руси» (2024)
Здравствуйте, Владимир Георгиевич!
Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность для этой беседы.
Надеюсь, она будет интересной и содержательной!
Ваше детство пришлось на те времена, когда первым секретарём ЦК КПСС был Никита Хрущёв. В тот период Советский Союз достиг больших успехов в покорении космоса, прославился одной из самых жёстких в послевоенный период антирелигиозной кампанией, но в то же время именно тогда наступила хрущевская оттепель, при которой большинство советских граждан почувствовали огромную разницу в сравнении с кровавым сталинским режимом.
Расскажите, как проходило ваше детство?
Детство обычное. Хорошее деревенское детство. Деревня на Алтае.
Да, детство оно во все времена самое, я думаю, хорошее и беззаботное, как и у любого человека, будь то советская или другая эпоха — детство есть детство. Летом — солнце, река, купание. Зимой — катание на санках, Новый год — Дед Мороз, подарки, Первое мая — музыка, флажки, воздушные шары.
Из того далёкого детства запомнилась поездка в Ленинград и встреча с бывшим военным, который потерял семью во время войны и хочет найти сына. Об этом у меня есть рассказ «Поездка в Ленинград». И хотя мне было тогда лет пять, я хорошо запомнил ту короткую встречу с ветераном.
То, что моя детская память сохранила о своём детстве, позже легло в строчки, и родились «Вовкины истории», часть 1 — в неё вошли истории мальчика Вовки от рождения до десятилетнего возраста. Книга издавалась трижды, два раза в Барнауле и один раз в Волгограде.
Благодаря «хрущёвской оттепели», кукурузе и проведённым реформам по реорганизации МТС, колхозов и совхозов, объединению (укрупнению) сельских районов, весной и летом 1963 года произошли глобальные изменения, которые вскоре изменили весь отлаженный ритм деревенской жизни. Село перестало быть районным центром и было упразднено в обычное сельское поселение в связи с укрупнением двух районов в один большой. Для Вовки, как и для других ребятишек, вроде бы ничего не изменилось, но из разговоров взрослых он понял, что это плохо, что это принесёт много проблем и неустройств. Вскоре так всё и получилось. Сначала из магазинов исчезли любимые Вовкой пряники: белые «мятные» и мягкие и сладкие — «северные». Потом полки прилавков в магазине стали пустеть с каждым днём всё больше и больше. А с наступлением осени вся их семья стала вечерами ходить в магазин за хлебом, где всегда приветливая знакомая продавец почему-то сперва зачитывала фамилии своих односельчан по списку, а потом продавала вызванным из очереди по половинке булки хлеба на каждого члена семьи, и только на тех, кто пришёл в магазин. Каждый вечер у магазина постоянно стало собираться чуть ли не всё село, почти как на майские демонстрации. Всё это для Вовки было странно и непонятно. А дальше становилось хуже — об этом он стал слышать от взрослых. Потом Вовка стал ходить провожать своих друзей, почему-то уезжающих с родителями жить в Барнаул или другие города. Его родители тоже стали поговаривать о переезде. И вскоре Вовка узнал, что их семья вместе с несколькими другими семьями собирается уезжать на какой-то далёкий Север.
Так в его родной деревне началось массовое переселение людей в разные города страны. Вовка тогда ещё не знал, что такое в стране случается регулярно с интервалом в несколько десятков лет, об этом он узнает позже. А сейчас он готовился к отъезду и был очень рад тому, что на Север они полетят на самолёте, он ещё никогда не летал, но видел самолёт-кукурузник, частенько пролетавший летом над полем на краю деревни.
И вот подошло время отъезда: холодным ноябрьским днём они уезжали со своей маленькой родины, уезжали сразу три семьи, шесть взрослых и девять ребятишек от трёх до тринадцати лет. Родители, прощаясь с родственниками, смахивали набегающие слёзы, а детям было интересно — их ждало что-то новое и неизведанное. С небогатыми пожитками, по одному-двум фанерным чемоданам на семью, они погрузились на полуторку, укрывшись старыми одеялами и тулупами, которая повезла их, заметая следы снежной позёмкой из-под колёс, в город Барнаул, откуда они полетят на далёкий и неизвестный Север, полетят далеко-далеко от родной стороны.
Потом было знакомство с Севером, с Норильском, вход в непростой детский мир северских пацанов. Родители устроились сразу же на работу: отец механиком в ЦАТК (центральная автотранспортная контора), мама с первых дней начала работу дворником в ЖКУ РСУ. Через месяц-полтора мы получили двухкомнатную квартиру в новом пятиэтажном кирпичном доме.
Из окна новой квартиры на пятом этаже я наблюдал, как строилась на моих глазах пятиэтажная кирпичная школа, в которую я должен буду пойти в первый класс на следующий год.
«Вовка часами смотрел в окно и наблюдал, как работают строители, как краны разгружают машины: стены будущей школы росли быстро, а вечерами он с пацанами бегал по стройке, где они играли в прятки или прыгали из окон первого построенного этажа в сугробы»(из книги «Вовкины истории»).
Так оно и произошло, 5 сентября 1964 года я бодро вступил на крыльцо новой школы №7.
Потом были школьные годы, учёба и приём в октябрята и пионеры, пионерские линейки, «Зарница», сбор металлолома и летние пионерские лагеря, КВНы и занятия спортом — от хоккея до баскетбола и волейбола в ДЮСШа, потом капитан сборной школы по баскетболу и волейболу. Первые спортивные разряды и награды за спортивные успехи. Занятия спортом помогали и в учёбе: был дважды в призёрах, участвуя в физико-математических городских олимпиадах. Восемь классов закончил всего с двумя тройками. Это было вполне нормально.
Хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность для этой беседы.
Надеюсь, она будет интересной и содержательной!
Ваше детство пришлось на те времена, когда первым секретарём ЦК КПСС был Никита Хрущёв. В тот период Советский Союз достиг больших успехов в покорении космоса, прославился одной из самых жёстких в послевоенный период антирелигиозной кампанией, но в то же время именно тогда наступила хрущевская оттепель, при которой большинство советских граждан почувствовали огромную разницу в сравнении с кровавым сталинским режимом.
Расскажите, как проходило ваше детство?
Детство обычное. Хорошее деревенское детство. Деревня на Алтае.
Да, детство оно во все времена самое, я думаю, хорошее и беззаботное, как и у любого человека, будь то советская или другая эпоха — детство есть детство. Летом — солнце, река, купание. Зимой — катание на санках, Новый год — Дед Мороз, подарки, Первое мая — музыка, флажки, воздушные шары.
Из того далёкого детства запомнилась поездка в Ленинград и встреча с бывшим военным, который потерял семью во время войны и хочет найти сына. Об этом у меня есть рассказ «Поездка в Ленинград». И хотя мне было тогда лет пять, я хорошо запомнил ту короткую встречу с ветераном.
То, что моя детская память сохранила о своём детстве, позже легло в строчки, и родились «Вовкины истории», часть 1 — в неё вошли истории мальчика Вовки от рождения до десятилетнего возраста. Книга издавалась трижды, два раза в Барнауле и один раз в Волгограде.
Благодаря «хрущёвской оттепели», кукурузе и проведённым реформам по реорганизации МТС, колхозов и совхозов, объединению (укрупнению) сельских районов, весной и летом 1963 года произошли глобальные изменения, которые вскоре изменили весь отлаженный ритм деревенской жизни. Село перестало быть районным центром и было упразднено в обычное сельское поселение в связи с укрупнением двух районов в один большой. Для Вовки, как и для других ребятишек, вроде бы ничего не изменилось, но из разговоров взрослых он понял, что это плохо, что это принесёт много проблем и неустройств. Вскоре так всё и получилось. Сначала из магазинов исчезли любимые Вовкой пряники: белые «мятные» и мягкие и сладкие — «северные». Потом полки прилавков в магазине стали пустеть с каждым днём всё больше и больше. А с наступлением осени вся их семья стала вечерами ходить в магазин за хлебом, где всегда приветливая знакомая продавец почему-то сперва зачитывала фамилии своих односельчан по списку, а потом продавала вызванным из очереди по половинке булки хлеба на каждого члена семьи, и только на тех, кто пришёл в магазин. Каждый вечер у магазина постоянно стало собираться чуть ли не всё село, почти как на майские демонстрации. Всё это для Вовки было странно и непонятно. А дальше становилось хуже — об этом он стал слышать от взрослых. Потом Вовка стал ходить провожать своих друзей, почему-то уезжающих с родителями жить в Барнаул или другие города. Его родители тоже стали поговаривать о переезде. И вскоре Вовка узнал, что их семья вместе с несколькими другими семьями собирается уезжать на какой-то далёкий Север.
Так в его родной деревне началось массовое переселение людей в разные города страны. Вовка тогда ещё не знал, что такое в стране случается регулярно с интервалом в несколько десятков лет, об этом он узнает позже. А сейчас он готовился к отъезду и был очень рад тому, что на Север они полетят на самолёте, он ещё никогда не летал, но видел самолёт-кукурузник, частенько пролетавший летом над полем на краю деревни.
И вот подошло время отъезда: холодным ноябрьским днём они уезжали со своей маленькой родины, уезжали сразу три семьи, шесть взрослых и девять ребятишек от трёх до тринадцати лет. Родители, прощаясь с родственниками, смахивали набегающие слёзы, а детям было интересно — их ждало что-то новое и неизведанное. С небогатыми пожитками, по одному-двум фанерным чемоданам на семью, они погрузились на полуторку, укрывшись старыми одеялами и тулупами, которая повезла их, заметая следы снежной позёмкой из-под колёс, в город Барнаул, откуда они полетят на далёкий и неизвестный Север, полетят далеко-далеко от родной стороны.
Потом было знакомство с Севером, с Норильском, вход в непростой детский мир северских пацанов. Родители устроились сразу же на работу: отец механиком в ЦАТК (центральная автотранспортная контора), мама с первых дней начала работу дворником в ЖКУ РСУ. Через месяц-полтора мы получили двухкомнатную квартиру в новом пятиэтажном кирпичном доме.
Из окна новой квартиры на пятом этаже я наблюдал, как строилась на моих глазах пятиэтажная кирпичная школа, в которую я должен буду пойти в первый класс на следующий год.
«Вовка часами смотрел в окно и наблюдал, как работают строители, как краны разгружают машины: стены будущей школы росли быстро, а вечерами он с пацанами бегал по стройке, где они играли в прятки или прыгали из окон первого построенного этажа в сугробы»(из книги «Вовкины истории»).
Так оно и произошло, 5 сентября 1964 года я бодро вступил на крыльцо новой школы №7.
Потом были школьные годы, учёба и приём в октябрята и пионеры, пионерские линейки, «Зарница», сбор металлолома и летние пионерские лагеря, КВНы и занятия спортом — от хоккея до баскетбола и волейбола в ДЮСШа, потом капитан сборной школы по баскетболу и волейболу. Первые спортивные разряды и награды за спортивные успехи. Занятия спортом помогали и в учёбе: был дважды в призёрах, участвуя в физико-математических городских олимпиадах. Восемь классов закончил всего с двумя тройками. Это было вполне нормально.
В начале 70-х вы окончили Норильский индустриальный институт и получили распределение в город Барнаул! Именно в этом городе, в котором когда-то жил и творил известный поэт и прозаик Марк Юдалевич, и началась ваша карьера. Можете рассказать о том времени поподробнее?
1972 год. Быстро пролетели школьные годы.
Восьмой класс.
После первых в жизни экзаменов встаём на распутье, куда пойти учиться: в ПТУ, техникум или в 9 класс?
Один из моих друзей выбрал учебу в ПТУ на профессию токаря (выучился, потом стал токарем-универсалом высшего разряда), со вторым другом мы приняли решение: пойдём учиться в техникум по специальности ПГС, остальные мои одноклассники пошли в 9 класс. Чтобы не болтаться по любимому городу без дела до вступительных экзаменов, я устроился на работу в столярный цех РСУ ЖКУ учеником столяра. С первых дней мне «сразу повезло»: всю неделю я помогал пожилому столяру делать гробы.
Может, это была проверка меня на «прочность нервов» или просто дали мне понять о бренности бытия: столяры — они мужики весёлые, с изюминкой-хитрецой. Потом учили делать столы и шкафы, разные стенды и скамьи для спортзалов. Удары молотком по пальцам поначалу были, и занозы были, но в дружном коллективе «этим хвалиться» не будешь. Не поймут!
Отработав месяц, получил зарплату — 380 рублей! Первая моя покупка с честно заработанных денег — переносной магнитофон «Весна»! Рублей за 220, вроде. Потом были вступительные экзамены, сдав которые поступил на средне-технический факультет дневного отделения в Норильский вечерний индустриальный институт по специальности промышленное и гражданское строительство (сокращённо НВИИ СТФ ПГС).
Учёба в техникуме сильно отличалась от школьных занятий — другой уровень, другой круг друзей, другие интересы. Казалось, что стал взрослей и старше своих одноклассников. Нет, это не высокомерие или зазнайство. Это осознание того, что ты вышел на другой уровень познания, познания будущей профессии и определения основного направления в последующие годы взрослой жизни. Фактически это пришло после первой экзаменационной сессии.
Занятия спортом тоже перешли на другой уровень: тренер ДЮСШа перестал нас тренировать и на одной из тренировок сказал нам всем, что уходит и доверяет вести секцию по волейболу мне. В это время я уже был главным судьёй соревнований по волейболу и капитаном команды НВИИ по волейболу, и вот потом стал ещё параллельно и тренером по волейболу. Попутно участие в городских соревнованиях по другим видам спорта: бег на коньках, лёгкая атлетика, лыжи.
Время было очень интересное — студенческое.
Потом было направления на работу после окончания техникума. Я шёл по среднему баллу диплома 11 из 93 учащихся, и у меня был хороший выбор места будущей работы. Таких техникумов, как НВИИ СТФ, было четыре на весь СССР, и у нас было всесоюзное распределения на место работы. Каждый год распределение зависело от того, какому Министерству СССР нужны будут специалисты. В мой год окончания специалисты понадобились Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР (а в предыдущем году 1976-м, к примеру, было распределение по Министерству сельского хозяйства СССР). И наш курс распределялся от Сочи до Владивостока (Керчь, Сочи, Минск, Рига, Вильнюс, Киев, Калининград, Ленинград, Нижний Новгород, Свердловск, Тюмень, Омск, Барнаул, Томск, Иркутск и т. д.). Я выбрал свою малую Родину — Барнаул.
И 4 апреля 1977 года начал трудовой путь в проектном институте «Алтайгипроводхоз», в это же время началась и моя семейная жизнь (с 10-летнего я дружил с девушкой. Она жила в Сибири, я в Норильске. Сегодня мы в семейном браке 47 лет, а знакомы уже 57 лет, нам обоим сегодня по 67). Всё в жизни нужно делать одновременно и желательно вовремя.
В проектном институте начинал работать сначала техником стройотдела, потом старшим техником, через 2 года — инженер, старший инженер, ведущий инженер. Участвовал в больших проектах: проектирование в 1977 году Кулундинского канала (к сожалению, последние лет 25 он не действует, зарос уже деревьями), производственная база асфальтобетонного завода в Тобольске и др.
В 1979–1984 годах был на общественных началах секретарём комитета ВЛКСМ в проектной организации и членом горкома ВЛКСМ. В КПСС меня не приняли после полутора месяцев кандидатского срока за критику и некоторые несогласия.
В 1984 году мне предложили работу заместителем председателя Павловского райпотребсоюза по производству и строительству (Павловск — это районный центр в 45 км от Барнаула).
Восьмой класс.
После первых в жизни экзаменов встаём на распутье, куда пойти учиться: в ПТУ, техникум или в 9 класс?
Один из моих друзей выбрал учебу в ПТУ на профессию токаря (выучился, потом стал токарем-универсалом высшего разряда), со вторым другом мы приняли решение: пойдём учиться в техникум по специальности ПГС, остальные мои одноклассники пошли в 9 класс. Чтобы не болтаться по любимому городу без дела до вступительных экзаменов, я устроился на работу в столярный цех РСУ ЖКУ учеником столяра. С первых дней мне «сразу повезло»: всю неделю я помогал пожилому столяру делать гробы.
Может, это была проверка меня на «прочность нервов» или просто дали мне понять о бренности бытия: столяры — они мужики весёлые, с изюминкой-хитрецой. Потом учили делать столы и шкафы, разные стенды и скамьи для спортзалов. Удары молотком по пальцам поначалу были, и занозы были, но в дружном коллективе «этим хвалиться» не будешь. Не поймут!
Отработав месяц, получил зарплату — 380 рублей! Первая моя покупка с честно заработанных денег — переносной магнитофон «Весна»! Рублей за 220, вроде. Потом были вступительные экзамены, сдав которые поступил на средне-технический факультет дневного отделения в Норильский вечерний индустриальный институт по специальности промышленное и гражданское строительство (сокращённо НВИИ СТФ ПГС).
Учёба в техникуме сильно отличалась от школьных занятий — другой уровень, другой круг друзей, другие интересы. Казалось, что стал взрослей и старше своих одноклассников. Нет, это не высокомерие или зазнайство. Это осознание того, что ты вышел на другой уровень познания, познания будущей профессии и определения основного направления в последующие годы взрослой жизни. Фактически это пришло после первой экзаменационной сессии.
Занятия спортом тоже перешли на другой уровень: тренер ДЮСШа перестал нас тренировать и на одной из тренировок сказал нам всем, что уходит и доверяет вести секцию по волейболу мне. В это время я уже был главным судьёй соревнований по волейболу и капитаном команды НВИИ по волейболу, и вот потом стал ещё параллельно и тренером по волейболу. Попутно участие в городских соревнованиях по другим видам спорта: бег на коньках, лёгкая атлетика, лыжи.
Время было очень интересное — студенческое.
Потом было направления на работу после окончания техникума. Я шёл по среднему баллу диплома 11 из 93 учащихся, и у меня был хороший выбор места будущей работы. Таких техникумов, как НВИИ СТФ, было четыре на весь СССР, и у нас было всесоюзное распределения на место работы. Каждый год распределение зависело от того, какому Министерству СССР нужны будут специалисты. В мой год окончания специалисты понадобились Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР (а в предыдущем году 1976-м, к примеру, было распределение по Министерству сельского хозяйства СССР). И наш курс распределялся от Сочи до Владивостока (Керчь, Сочи, Минск, Рига, Вильнюс, Киев, Калининград, Ленинград, Нижний Новгород, Свердловск, Тюмень, Омск, Барнаул, Томск, Иркутск и т. д.). Я выбрал свою малую Родину — Барнаул.
И 4 апреля 1977 года начал трудовой путь в проектном институте «Алтайгипроводхоз», в это же время началась и моя семейная жизнь (с 10-летнего я дружил с девушкой. Она жила в Сибири, я в Норильске. Сегодня мы в семейном браке 47 лет, а знакомы уже 57 лет, нам обоим сегодня по 67). Всё в жизни нужно делать одновременно и желательно вовремя.
В проектном институте начинал работать сначала техником стройотдела, потом старшим техником, через 2 года — инженер, старший инженер, ведущий инженер. Участвовал в больших проектах: проектирование в 1977 году Кулундинского канала (к сожалению, последние лет 25 он не действует, зарос уже деревьями), производственная база асфальтобетонного завода в Тобольске и др.
В 1979–1984 годах был на общественных началах секретарём комитета ВЛКСМ в проектной организации и членом горкома ВЛКСМ. В КПСС меня не приняли после полутора месяцев кандидатского срока за критику и некоторые несогласия.
В 1984 году мне предложили работу заместителем председателя Павловского райпотребсоюза по производству и строительству (Павловск — это районный центр в 45 км от Барнаула).
Впоследствии вы занимали довольно значимые должности в Алтайском крае. Но мне бы хотелось спросить вас о том, где больше всего вам понравилось работать в качестве руководителя?
Ну, в общем-то, они не такие уж и большие, но по меркам СССР – не очень маленькие. Главное, что это были ответственные должности, самостоятельные, работа в этих должностях требовала инициативы и знания производства, технологий строительства и норм хозяйствования, а также умения разбираться в людях и их характерах. Уметь работать с людьми разного уровня. В те годы мне посчастливилось участвовать в организации строительства жилых домов, крупного хлебозавода в райцентре и реконструкций хлебопекарен в сёлах района. Самолично я их, конечно, не строил, но курировал их строительство, обеспечивая технической документацией и пр.
В 1985 году большой Павловский район, где я работал в райпо, разукрупнили (разделили на два района) и снова появился Шелаболихинский район, где я родился и из которого наша семья уехала на Север. Так, видимо, Судьбой было уготовано, чтобы решением Алтайского крайисполкома меня назначили заведующим отделом архитектуры Шелаболихинского райисполкома. И вот через 22 года я вернулся в своё родное село Шелаболиху, но уже 28-летним и в должности главного архитектора района. В то время я ещё учился на заочном отделении Политехнического института. Получилась так, что жил в одном районе, а работал в другом (в новом районе ещё предстояло построить жильё для новых специалистов района), и каждый день приходилось ездить 30 км до нового райцентра и потом обратно вечером. А также длинные поездки по колхозам нового района, сбор исходных данных для строительства новых объектов в райцентре и хозяйствах района, подготовка документации для получения технических условий на инженерные сооружения, в общем, текущая работа по новому строительству и благоустройству как райцентра, так и помощь в этих вопросах подготовки к проектированию в хозяйствах района. А тут подоспела подготовка дипломного проекта и защита…
В 1988 году в г. Барнауле меня избирают директором Барнаульского производственно-рекламного комбината «Росскоопторгреклама», где я и проработал по 2000 год. Комбинат занималсяпроизводством торгового оборудования, изготовлением и монтажом наружной и внутренней рекламы при художественном оформлении интерьеров магазинов, столовых, кафе и ресторанов, а также витрин и фасадных вывесок по системе потребкооперации во всех районах Алтайского края. Техника исполнения внутренней и наружной рекламы использовалась различная: живопись, ручная резьба по дереву (пропильная и сквозная резьба, геометрическая и рельефная) и гипсу, чеканка, инкрустация и др…
Затем я работал несколько лет в своей ООО по изготовлению столярных изделий, потом с 2007 года и до пенсии (2017 г.) – начальником отдела Алтайского центра земельного кадастра и недвижимости по Индустриальному району г. Барнаула.
Потом пенсия, свободный полёт и возможность вплотную заняться творчеством – писательством…
В 1985 году большой Павловский район, где я работал в райпо, разукрупнили (разделили на два района) и снова появился Шелаболихинский район, где я родился и из которого наша семья уехала на Север. Так, видимо, Судьбой было уготовано, чтобы решением Алтайского крайисполкома меня назначили заведующим отделом архитектуры Шелаболихинского райисполкома. И вот через 22 года я вернулся в своё родное село Шелаболиху, но уже 28-летним и в должности главного архитектора района. В то время я ещё учился на заочном отделении Политехнического института. Получилась так, что жил в одном районе, а работал в другом (в новом районе ещё предстояло построить жильё для новых специалистов района), и каждый день приходилось ездить 30 км до нового райцентра и потом обратно вечером. А также длинные поездки по колхозам нового района, сбор исходных данных для строительства новых объектов в райцентре и хозяйствах района, подготовка документации для получения технических условий на инженерные сооружения, в общем, текущая работа по новому строительству и благоустройству как райцентра, так и помощь в этих вопросах подготовки к проектированию в хозяйствах района. А тут подоспела подготовка дипломного проекта и защита…
В 1988 году в г. Барнауле меня избирают директором Барнаульского производственно-рекламного комбината «Росскоопторгреклама», где я и проработал по 2000 год. Комбинат занималсяпроизводством торгового оборудования, изготовлением и монтажом наружной и внутренней рекламы при художественном оформлении интерьеров магазинов, столовых, кафе и ресторанов, а также витрин и фасадных вывесок по системе потребкооперации во всех районах Алтайского края. Техника исполнения внутренней и наружной рекламы использовалась различная: живопись, ручная резьба по дереву (пропильная и сквозная резьба, геометрическая и рельефная) и гипсу, чеканка, инкрустация и др…
Затем я работал несколько лет в своей ООО по изготовлению столярных изделий, потом с 2007 года и до пенсии (2017 г.) – начальником отдела Алтайского центра земельного кадастра и недвижимости по Индустриальному району г. Барнаула.
Потом пенсия, свободный полёт и возможность вплотную заняться творчеством – писательством…
Хорошо. Пойдём дальше. Расскажите о начале вашей творческой карьеры. Что стало тем поворотным событием в вашей жизни,
после которого вы начали писать?
после которого вы начали писать?
Каждый писатель, будь то поэт или прозаик, ответит на этот вопрос практически одинаково: «Писать я начал лет с 10 или 11!» Кто-то ответит, что с 12-13! И это так. Это не потому, что им надумано, нет — это истинно так! Практически каждый человек (каждый!) пробует написать свой стих, стишок, посвящённый кому-то: маме, понравившейся (понравившемуся) девочке (мальчику) — в тайне, конечно. Но одни про это забывают с годами, перестают писать, а другие продолжали писать и складывали свои вирши в стол, подальше от чужих глаз. Потом и они переставали на какое-то время писать: жизнь не давала свободного времени. И лишь по прошествии лет они вспоминали об этом их увлечении и вновь начинали писать и находить свои давние стихи и записанные истории.
Лично я писал урывками, но часто, в своих рабочих журналах, блокнотах, иногда просто на листочках бумаги. В году 1989 или 1990 перепечатывал все свои записи на пишущей машинке вечерами после работы, сшивал их потом или скреплял степлером. Первый свой сборник стихов «Свеча горит, загадано так много…» заказал в частной типографии в начале 1997 года в количестве 200 экземпляров, 96 страниц. Помню, приехал забирать тираж, сердце колотится, на улице метель, снег бьёт по стёклам машины, и выйти не могу. Минут десять сидел в машине, волновался. Зато какая гордость и удовлетворение было оттого, что вот они, мои первые книги, лежат в коробках на переднем сидении машины!
Лично я писал урывками, но часто, в своих рабочих журналах, блокнотах, иногда просто на листочках бумаги. В году 1989 или 1990 перепечатывал все свои записи на пишущей машинке вечерами после работы, сшивал их потом или скреплял степлером. Первый свой сборник стихов «Свеча горит, загадано так много…» заказал в частной типографии в начале 1997 года в количестве 200 экземпляров, 96 страниц. Помню, приехал забирать тираж, сердце колотится, на улице метель, снег бьёт по стёклам машины, и выйти не могу. Минут десять сидел в машине, волновался. Зато какая гордость и удовлетворение было оттого, что вот они, мои первые книги, лежат в коробках на переднем сидении машины!
Хорошо. А теперь я бы хотел поговорить с вами непосредственно о вашем творчестве.
Одно из ваших стихотворений, на которое я обратил внимание, называется «Алтайский край». Насколько я понимаю, вы сочинили это произведение вместе с дочерью и внучкой.
Это очень трогательно! Расскажите, как это было?
Одно из ваших стихотворений, на которое я обратил внимание, называется «Алтайский край». Насколько я понимаю, вы сочинили это произведение вместе с дочерью и внучкой.
Это очень трогательно! Расскажите, как это было?
Это было, помнится, после прочтения объявления в «Алтайской правде» о начале приёма конкурса любительских стихов об Алтае. Тогда мы ещё газеты и журналы выписывали и получали по почте. А в гостях были дочь с внучкой. Вот я им и предложил сочинить сообща стихотворение. Акростих получился. Увлеклись и сразу четыре варианта стихов написали. Ничего не выиграли. И даже не узнали, прочли их члены жюри или нет. В общем, как-то так.
В 2016 году вы опубликовали документальный очерк «Председатель колхоза «Россия» –человек из СССР». В этом очерке вы с особой теплотой пишете о своём дяде как о настоящем хозяйственнике.
О том, как он с нуля поднимал колхоз. Да и в целом из вашего творчества становится понятно, что Советский Союз, прекративший своё существование в начале 90-х, занимает особое место в вашем сердце.
В связи с этим у меня к вам вопрос.
Считаете ли вы, что советская система к концу 80-х годов была ещё вполне жизнеспособной, и нужна была лишь политическая воля руководства, чтобы спасти страну? Или же СССР на тот момент был уже неким подобием «Титаника», получившего пробоину, чья гибель была лишь вопросом времени?
О том, как он с нуля поднимал колхоз. Да и в целом из вашего творчества становится понятно, что Советский Союз, прекративший своё существование в начале 90-х, занимает особое место в вашем сердце.
В связи с этим у меня к вам вопрос.
Считаете ли вы, что советская система к концу 80-х годов была ещё вполне жизнеспособной, и нужна была лишь политическая воля руководства, чтобы спасти страну? Или же СССР на тот момент был уже неким подобием «Титаника», получившего пробоину, чья гибель была лишь вопросом времени?
Вопрос сложный. Судя по моим родственникам, конкретно по отцу (отец был секретарём комсомола МТС во время освоения Целины, потом коммунистом и секретарём парторганизации ЦАТКа в г. Норильске около 10 лет), двум дядям (один – участник и инвалид (с 19 лет) Великой Отечественной войны, проработал около 30 лет председателем Шелаболихинского и Павловского райисполкомов до 1980 г., второй почти 30 лет проработал председателем колхоза «Россия», про очерк о котором вы напомнили в вопросе, и многим, кого я знал из руководителей разных рангов, СССР мог уйти далеко вперёд! Не случись 91 года. А вначале не случись 85. И 1982... Но,.. вопрос сложный… Оценка тому, что произошло, ещё не дана окончательно. Я не политик. Я пишу факты, о которых знаю лично. Если я знаю про своих родственников с их слов и из своих наблюдений – вот про то и написал. (Будет ли это интересно широкому кругу читателей – не знаю. Родственникам и знакомым – интересно. Иногда бывает так – главным бывает то, что кажется малым! Это как маленький камень, брошенный в воду, даёт много кругов. Когда малый круг начинает читать и передавать книгу другим, своим знакомым, друзьям – это приносит пользы больше, чем большой тираж, лежащий на полках без движения.) Выдумывать что-то – это к фантастам. А то, что сама система социализма очень даже жизнеспособна – это факт. Просто люди разные…
Кстати, у вас немало сатирических стихотворений! Сатира — это замечательно!
Но, как известно, за всякой сатирой в той или иной мере скрывается горькая правда жизни! Например, стихотворение «Либералы для порядка» показывает ваше отношение к российским либералам. С вашего позволения я зачитаю его, а потом задам вопрос.
***
Либералы для порядка
Ежедневно нам твердят:
«Мол, нужна перезарядка,
Чтобы лет за пятьдесят
Стать сильнее и могучей,
Чтобы лучше Вам жилось».
Подвернулся как-то случай —
Из народа донеслось:
«А нельзя в раз десять раньше,
Чтобы это началось?»
И, прищуря кари глазки,
На пиджак роняя пот,
Либерал продолжил сказки,
Рассказав всем анекдот.
Мой вопрос будет многослойным, поскольку вырастет из вашего стихотворения примерно так же, как из гоголевской «Шинели» выросла вся русская литература! Но думаю, что вы как человек, который был кандидатом в депутаты, вероятно, найдёте что ответить.
Итак! Скажу откровенно, с одной стороны, я, разумеется, понимаю основные принципы либерального мироустройства, которое нередко в современном мире обнаруживает свои недостатки. А уж для России либеральный подход вообще мог закончиться трагедией, если бы Ельцин не передал власть в руки гораздо более сильного и нужного на тот момент человека, чем он сам. Но, с другой стороны, не кажется ли вам, что власть двух последних десятилетий не раз показывала нам, что истинная любовь к родине для многих из её представителей прямо пропорциональна карьерной лестнице и денежному вознаграждению. И что идеологический стержень, который был, например, в Царской России, да и в СССР, сегодня просто отсутствует. Да, разумеется, вокруг нашей будущей победы над Украиной уже сплотилось много российских граждан.
Но СВО будет завершено. А что дальше? Будем присоединять Польшу для поддержания волны патриотизма? Или специально для России Иисус должен явиться во второй раз и научить нас жить? В чём, по-вашему, должен быть заключён идеологический фундамент современного российского общества?
Но, как известно, за всякой сатирой в той или иной мере скрывается горькая правда жизни! Например, стихотворение «Либералы для порядка» показывает ваше отношение к российским либералам. С вашего позволения я зачитаю его, а потом задам вопрос.
***
Либералы для порядка
Ежедневно нам твердят:
«Мол, нужна перезарядка,
Чтобы лет за пятьдесят
Стать сильнее и могучей,
Чтобы лучше Вам жилось».
Подвернулся как-то случай —
Из народа донеслось:
«А нельзя в раз десять раньше,
Чтобы это началось?»
И, прищуря кари глазки,
На пиджак роняя пот,
Либерал продолжил сказки,
Рассказав всем анекдот.
Мой вопрос будет многослойным, поскольку вырастет из вашего стихотворения примерно так же, как из гоголевской «Шинели» выросла вся русская литература! Но думаю, что вы как человек, который был кандидатом в депутаты, вероятно, найдёте что ответить.
Итак! Скажу откровенно, с одной стороны, я, разумеется, понимаю основные принципы либерального мироустройства, которое нередко в современном мире обнаруживает свои недостатки. А уж для России либеральный подход вообще мог закончиться трагедией, если бы Ельцин не передал власть в руки гораздо более сильного и нужного на тот момент человека, чем он сам. Но, с другой стороны, не кажется ли вам, что власть двух последних десятилетий не раз показывала нам, что истинная любовь к родине для многих из её представителей прямо пропорциональна карьерной лестнице и денежному вознаграждению. И что идеологический стержень, который был, например, в Царской России, да и в СССР, сегодня просто отсутствует. Да, разумеется, вокруг нашей будущей победы над Украиной уже сплотилось много российских граждан.
Но СВО будет завершено. А что дальше? Будем присоединять Польшу для поддержания волны патриотизма? Или специально для России Иисус должен явиться во второй раз и научить нас жить? В чём, по-вашему, должен быть заключён идеологический фундамент современного российского общества?
Вопрос длинный. Ответ на него должен быть, наверное, ещё длинней. Но я не вижу на него ответа. Единственно, что я понимаю и думаю, это то, что в любом государстве люди должны работать по своим, полученным в учебных заведениях специальностям, получать достойную зарплату, отдыхать достойно, быть уверенными в своём будущем и будущем своих детей. Не на трёх работах работать, а на одной и с полным удовольствием и отдачей. Идеологический фундамент с его основами вписан в Конституцию. Добавить большего я не могу…
В 2017 году вы официально стали пенсионером. Теперь, вероятно, у вас появилось гораздо больше времени, которое можно уделить своей семье, творчеству, хобби?
Да. В принципе это так. Но дети уже выросли и уделяют внимание своей семье, внуки тоже уже обзаводятся семьями, заканчивают учиться и вот-вот начнут работать. Время — вещь относительная. Вроде бы его и много, а приглядишься — так и не очень!
В 2024 году вы решили баллотироваться в депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Что именно вдохновило вас принять такое решение?
Хотелось попробовать свои пенсионерские силы. Посмотреть, так сказать, вблизи на саму систему выборов. Не с экрана телевизора. Да и писателей в депутатах нет. Во всяком случае, у нас в Заксобрании. А должны бы быть!
Почему не получилось победить на выборах?
Думаю, потому что люди перестали ногами ходить на выборы. Устали, что ли. Или не верят. Или надоело всё.
Как вы относитесь к тому, что у нас существует несколько союзов писателей?
– В принципе, положительно. Так же как и к тому, что существует множество литературных клубов и объединений в городах и районах края при библиотеках и домах культуры.
Кстати, среди участников этих литобъединений есть не только любители поэзии и литературы в целом, а весьма достойные авторы, не состоящие ни в одном литературном союзе!
Здесь главное, чтобы авторов читали и по возможности чаще печатали в районных и краевых газетах не только потому, что они относятся к тому или иному союзу, а потому что у них есть достойные произведения для широкого круга читателей.
Кстати, в наших СМИ, мне так кажется, не хватает именно этого раздела – художественно-литературного. Одни статьи, сводки с полей и погоды, рекламные блоки в СМИ не делают наши газеты более привлекательными.
И ещё относительно союзов писателей хочу сказать следующее: нам, союзам, в принципе делить нечего. Так как благодаря интернету и его ресурсам каждый автор имеет на тех или иных литературных сайтах своих постоянных читателей и свой определённый рейтинг читаемости. К примеру, благодаря одному сайту «Сервер современной литературы "Самиздат" при библиотеке Мошкова, предназначенный для создания авторских литературных разделов» рейтинг моей странички (по статистической таблице сайта) с 2016 года – 403697 читателей или 970 место из 105 тысяч авторов.
Но авторам хочется, чтобы их печатали и в бумажных изданиях, в том числе и за счёт бюджета. Потому что литература – часть культуры, и не второстепенная её составляющая.
И вот здесь в этом и должны участвовать совместно и на равных правах литературные союзы, не подразделяясь административно на главные и второстепенные. Главным для нас, авторов, является только ЧИТАТЕЛЬ! Он выбирает авторов по своим интересам!
Кстати, среди участников этих литобъединений есть не только любители поэзии и литературы в целом, а весьма достойные авторы, не состоящие ни в одном литературном союзе!
Здесь главное, чтобы авторов читали и по возможности чаще печатали в районных и краевых газетах не только потому, что они относятся к тому или иному союзу, а потому что у них есть достойные произведения для широкого круга читателей.
Кстати, в наших СМИ, мне так кажется, не хватает именно этого раздела – художественно-литературного. Одни статьи, сводки с полей и погоды, рекламные блоки в СМИ не делают наши газеты более привлекательными.
И ещё относительно союзов писателей хочу сказать следующее: нам, союзам, в принципе делить нечего. Так как благодаря интернету и его ресурсам каждый автор имеет на тех или иных литературных сайтах своих постоянных читателей и свой определённый рейтинг читаемости. К примеру, благодаря одному сайту «Сервер современной литературы "Самиздат" при библиотеке Мошкова, предназначенный для создания авторских литературных разделов» рейтинг моей странички (по статистической таблице сайта) с 2016 года – 403697 читателей или 970 место из 105 тысяч авторов.
Но авторам хочется, чтобы их печатали и в бумажных изданиях, в том числе и за счёт бюджета. Потому что литература – часть культуры, и не второстепенная её составляющая.
И вот здесь в этом и должны участвовать совместно и на равных правах литературные союзы, не подразделяясь административно на главные и второстепенные. Главным для нас, авторов, является только ЧИТАТЕЛЬ! Он выбирает авторов по своим интересам!
Что бы вы хотели пожелать начинающим авторам?
– Начинающим авторам. Во-первых, прежде всего – думать! Во-вторых, писать. И писать, не придумывая, а записывать то, что пришло вдруг, записывать свои наблюдения, воспоминания. Это «вдруг» и является тем, что может стать впоследствии достойным. У меня есть такое четверостишие на эту тему:
Не мы придумываем ЭТО.
То, что приходит, то извне.
Одни записывают в строчку –
Другие носят всё в себе!
И ещё из своей практики жизни: когда-то давно, лет пятьдесят с лишним назад из московского журнала мне прислали ответ на моё стихотворение: «Читайте хороших поэтов и разных. И думайте. И тогда всё получится».
Не мы придумываем ЭТО.
То, что приходит, то извне.
Одни записывают в строчку –
Другие носят всё в себе!
И ещё из своей практики жизни: когда-то давно, лет пятьдесят с лишним назад из московского журнала мне прислали ответ на моё стихотворение: «Читайте хороших поэтов и разных. И думайте. И тогда всё получится».
Теперь, с вашего позволения, несколько коротких вопросов, или так называемый блиц.
Какие добродетели Вы цените больше всего?
Какие добродетели Вы цените больше всего?
Совесть.
Ваше любимое занятие?
Читать.
Лучший композитор всех времен?
Антонов.
Ваша главная черта?
Ответственность.
Если не собой, то кем Вам хотелось бы быть?
Собой всё равно.
Лучший поэт всех времен?
Высоцкий.
Что является вашим главным недостатком?
Доверчивость.
Ваш любимый цвет?
Белый.
Лучший художник всех времен?
Нет.
Согласились бы на сделку с дьяволом ради бессмертия?
Нет.
Ваш девиз?
Наша история — это мы сами.
Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
Благодарю.
Ваше любимое занятие?
Читать.
Лучший композитор всех времен?
Антонов.
Ваша главная черта?
Ответственность.
Если не собой, то кем Вам хотелось бы быть?
Собой всё равно.
Лучший поэт всех времен?
Высоцкий.
Что является вашим главным недостатком?
Доверчивость.
Ваш любимый цвет?
Белый.
Лучший художник всех времен?
Нет.
Согласились бы на сделку с дьяволом ради бессмертия?
Нет.
Ваш девиз?
Наша история — это мы сами.
Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
Благодарю.
Наша беседа подошла к концу. Хочу ещё раз выразить вам свою благодарность и предоставить вам возможность завершить интервью.
Хочу пожелать всем огромного человеческого счастья! И в то же время подчеркнуть тремя жирными чертами, что за счастье нужно бороться. Счастье – не залётная птица! Оно само не прилетает! За него надо бороться! Особенно в наше очень сложное и непростое время! За него надо бороться!
Всем доброты, здоровья и счастья!
Всем доброты, здоровья и счастья!
Автор публикации Борис Эхтин, главный редактор журнала TERANTELLA.
Январь/2025
